Введение
Мы философствуем, когда осмеливаемся говорить, соотносясь с Целым. Это соотнесение для того, чтобы выступить условием философской речи, должно быть осознанным и понятийным — рефлексивным. То, что мы при этом говорим, никак не можем нравиться всем, так как модальность нашей речи, ориентированной установкой на Целое, неминуемо “партикулярна”. У других людей, ведь, иная точка зрения, другой взгляд на вещи, иное соотнесение с Целым. Попросту говоря, у людей разные мировоззрения и разные философии. И поэтому попасть в “философию всех” мы даже при всем желании вряд ли можем, так как ее, кажется, просто не существует или, точнее, вряд ли она может существовать. Но не говорить, “односторонне” соотносясь с Целым, с тем, что по определению односторонним не является, философ как философ не может. Будучи рационально, в понятиях рассуждающим “представителем” Целого (т.е. тем, кто его, Целое, так или иначе представляет для себя и других), философ поступать иначе не может, так как именно этим он подтверждает свое предназначение быть философом.
Исходя из такого представления о назначении философа, признать Гастона Башляра (1884–1962) философом не просто. Приведем свидетельство Рене Пуарье, его ученика и друга, сравнивающего известных французских философов тех лет со своим учителем: “Бергсон, Тейяр де Шарден, Эдуард Лё Руа* и многие другие открыто ставят проблему бытия, проблему духа в его отношении к телу, рассматривается ли при этом дух как сознание или как активность или как моральная личность. У этих философов вопросы о душе и теле, об эволюции и конечной цели, о “Я” и его динамизме стоят на первом плане, в то время как Башляр выносит их за скобки... Эта установка у него расширяется и переходит в отказ от всех метафизических или этических проблем, от всех онтологических или аксиологических трансценденций (au–dela).
Таким образом, нет проблемы Бога, нет проблемы мира, “Я”, субъекта и ментальных интенций. Но что тогда остается на эпистемологическом уровне? Прежде всего интеллектуальная антропология, описание и педагогика научного разума” [108, с. 20–22]. Сказано, может быть, чрезмерно жестко, но ситуация взвешена в целом правильно. У Башляра, действительно, нет ни эксплицитной онтологии, ни явно выраженной метафизики... Правда, некоторые исследователи, как, например, Клеманс Рамну, пытаются реконструировать его онтологию, но делают это по косвенным намекам, по отдельным словоупотреблениям термина “бытие” в некоторых его текстах, кстати, не эпистемологических, а посвященных анализу воображения и поэзии [112]. Ситуация проясняется, если мы вспомним, что творчество Башляра почти симметрично делится на две половинки – на эпистемологию, с одной стороны, и эстетику и критику, с другой. Уже сам факт этой двуполюсности позволяет нам предположить, что мыслитель в своей антропологии видел человека принципиально двойственным по природе — человеком “дня” или (научного) разума и человеком “ночи” или (ненаучного) воображения. В своих эпистемологических работах Башляр редко говорит о воображении, а если и говорит, то, как правило, как о препятствии научному духу. В этих работах Башляр, напротив, подчеркивает чистоту рациональности современной науки: “Спин мыслим, но ни в коем случае не воображаем” [3, с. 121].
Удивительны и мировоззренческие “качели” в этих явно контрастных частях его творчества. Так в эпистемологических работах, упоминая порой воображение, Башляр склоняется чуть ли не к вульгарному физиологическому материализму (“не следует забывать, что процесс воображения непосредственно связан с сетчаткой, а не с чем-то мистическим и всемогущим” [там же, с. 121]), в то время как в работах по поэтике он, напротив, как раз склонен к романтическому наделению воображения миросозидающей силой*. Не пытаясь сейчас как-то объяснить это расхождение, зафиксируем несомненную и осознанную интенцию Башляра максимально развести разум и воображение: “Оси науки и поэзии противоположны” [63, с. 46], “научная установка состоит именно в том, чтобы сопротивляться наваждению символа” [60, с. 49], “научное понятие функционирует тем лучше, чем оно полнее освобождено от всего образного фона” [59, с. 14]. Рациональная активность и поэтическая греза как день и ночь контрастно чередуются резким, несмешиваемым ритмом в его творчестве. Герменевтам-башляроведам мыслитель с площади Мобер** задал трудную задачу. Одни из них, например, Ж.-К.Марголен, считают, что Башляр “в силе воображения открыл общий источник как научного открытия, так и художественного творчества” [105, с. 9]. На сходной позиции стоит и Мери Мак Аллестер, полагающая, что для поэзии и для науки у Башляра находится общий знаменатель — человеческая креативность, несущая с собой общий для творческой установки мир ценностей [102, с. 98]. Но большинство исследователей творчества мыслителя доверяют ему самому, всегда подчеркивавшему, что между научным разумом и вненаучным воображением имеется непреодолимый разрыв. “Мои исследования по эпистемологии, — говорит Башляр, — не имеют ничего общего с проблемой воображения. И я не устаю вызывающе отвечать на обращенный ко мне вопрос: “А как обстоит дело с математическим воображением?”, подчеркивая, что если и имеется математическое воображение, то его надо называть совсем иначе, чем воображение” [102, с. 142]. В «Философии “не”» (так мы предпочитаем переводить название недавно переведенной на русский язык [3] книги Башляра “Philosophie du non” [56]) Башляр, тем не менее, признает, что в науке есть мечта (и воображение). Но она, во–первых, радикально отлична от обычной, и, во–вторых, есть просто-напросто стремление к математизации естествознания: “Мистическая мечта в ее современном научном проявлении имеет, на наш взгляд, отношение прежде всего к математике. Она стремится к большей математизации, к образованию более сложных математических функций” [3, с. 189].
Итак, возвращаясь к нашему определению предназначения философа, мы видим, что Целое, т.е. то, что, как подразумевается, стоит за этим круговоротом дней и ночей, разума науки и воображения поэзии, не стало, по крайней мере, осознанным предметом мысли в творчестве Башляра. И именно поэтому мы сказали, что не просто признать его философом. Эпистемолог, теоретик поэзии, историк науки — несомненно... Но, тем не менее, сама интуиция разума и науки у него такова, что, даже опираясь только на одну, эпистемологическую, половину его творчества, мы не можем не признать Башляра-эпистемолога философом. Почему? Да прежде всего потому, что именно в научной мысли, в разуме, в рациональности Башляр и видел Целое! Башляр относился к Разуму и Науке как к предметам самого вдохновенного, почти религиозного культа. Самая простая практика современной науки вызывала у него прилив энтузиазма, лиризма, священнослужительского восторга. У этого мыслителя, напрочь забывшего, казалось бы, все метафизические, религиозные, онтологические, космологические и этические проблемы, была самая настоящая вера в Науку и Разум. “В нем чувствовался апостол, отец Церкви, апологет, проповедник. Он заставляет меня вспомнить св.Бернара с его проповедями по поводу библейской “Песни песней”, но его, Башляра, “Песней” была Наука и этой наукой он восхищался, и когда ее критиковали, его главной темой была ее защита, и он ее тогда защищал, говоря, что ее не понимают” [108, с. 14].
Как эпистемолог Башляр уже имел в виду Целое, относился к Целому, отождествляя его с Наукой. Разум и наука кажутся нам всегда не–целыми и не–цельными, конечными потому, что мы их привычно связываем с границами и пределами, с постулатами и исключениями. Но для Башляра научный разум был живым, динамическим, самотранцендирующим началом, т.е. открытым целым в сфере мысли, труда, истории, то есть того, что лучше всего назвать, пожалуй, цивилизацией (в западном новоевропейском смысле). Открытое Целое, незавершенное Целое (т.е. несовершенное Целое) — не противоречиво ли само это понятие? Да, Башляр в нем подходит к тому, чтобы вместо Бытия мыслить возможность и становление, вместо Единого — множественное, вместо Целого — фракционный, многоликий, региональный разум... Но как бы ни дробился образ Целого, мы, тем не менее, не можем не признать, что исходным началом все же было Целое...
Возвращаясь к метафоре дня и ночи, мы не можем не видеть, что день имеет пред ночью то преимущество, что он может обсуждать и понимать не только себя, но и ночь. Ведь именно разум объясняет грезы и распутывает хаос воображения. Именно разум толкует ночные сновидения и символы традиции. Башляр был воинствующим, непримиримым рационалистом, и это означает, что он был столь же жестким антитрадиционалистом. В плане культурологических предрасположенностей творческой личности эта характеристика Башляра–мыслителя представляется нам определяющей.
Башляр как личность и как интеллектуал был воспитан в ценностях республиканизма, демократии, в ценностях новой Франции. Его интерес к науке и поэзии не шел далеко вглубь истории. В противоположность многим своим современникам–философам, окончившим Высшую Нормальную Школу и получившим классическое философское образование, он был выходцем из провинции и хотя, сдавая агрегационный экзамен, показал знания латыни и греческого, но никогда ни Вергилий, ни трагики, ни греческие философы не были предметом его размышлений. Его эпоха начинается с Революции, с XIX в., науку и поэзию которого он знал превосходно, включая науку и поэзию XX в. Революция сделала культом Разум — и Башляр со всей страстностью натуры этот культ исповедовал, подчеркивая, что высшим началом для человека является не воля к власти, а воля к разуму: “Убеждать людей правотой вещей (avoir raison des hommes par les choses) — вот в чем высший успех или триумф, он не в воле к власти, а в воле к разуму (Wille zur Vernunft)” [55, с. 247].
Рационалист (вплоть до “сюррационализма”), прогрессист, модернист... — все это — Башляр. И даже материалист! Пусть его материализм это — материализм рациональный, конструктивный, технический, даже “трансцендентальный” [70]. Да, такой материализм, как справедливо отмечает Пуарье [108, с. 23], отличается и от материализма Дидро и от материализма Геккеля и, наконец, от диалектического материализма, что отмечали, и не без сожаления, некоторые марксисты. В нем нет, увы, привычной для многих из них идеологической верности раз принятой догме. Его душа восхищается не принципом “объективной реальности, данной нам в ощущении”, а феноменом науки, перешагивающей через саму себя, созидающей новый мир, опережающей реальность как данность, конструирующей новую действительность...
Итак, все равно материалист, хотя и в высшей степени рационалистический и активистский. Более того, в его творчестве мы не находим и проблемы Бога. Значит, возможно, и скорее всего еще и атеист... Да, Башляр сполна принадлежит той Франции, той части французской культуры, которую обозначают как республиканская. Для этой культуры характерны три ценностных “кита” (как в России “самодержавие, православие, народность”): наука, школа, общество. Башляр оставался верен этой “трилогии” светских и республиканских ценностей всю свою долгую жизнь провинциала–автодидакта на профессорской кафедре в Сорбонне [105, с. 111]. Ценности научной культуры, ценности просвещения, обучения (Школы) и, наконец, ценности гражданские и общественные — вот “арматура”этой личности, ее глубинные основы. Как культура соседней с Францией Испании делится на культуру Испании “черной” (Espana negra) и Испании “красной” (Espana roja), подобным же образом и культура Франции в первом приближении биполярна. И Башляр в ней явно и однозначно занимает левый — республиканский, светский, рационалистический и материалистический — полюс, которому противостоит Франция монархическая, традиционалистская, католическая, спиритуалистическая. С одной стороны, Франция Жозефа де Местра, с другой — Огюста Конта. И, несмотря на свою критику Конта (впрочем, к нему он относился всегда с большим уважением), Башляр во многом был его последователем. Да, он не был позитивистом и немало сделал для его преодоления в философии и истории науки. Но в своем рационализме, в своем педагогизме, в своем культе разума — открытого, активного, всемогущего — он оставался рядом с Контом, вместе с ним присоединяясь к традиции ученых и философов Франции, которым были близки ценности Школы и Науки (Л.Брюнсвик, А.Рей и др.).
Философия науки Башляра — докризисная. Я хочу сказать, что она создавалась в атмосфере увлечения наукой, ее захватывающими дух успехами. Проблемы кризиса науки и всей техногенной цивилизации у Башляра мы не найдем. Нет и других модных сегодня тем, связанных с наукой и осмыслением ее образа в обществе. Попытка счесть его предшественником методологического анархизма в духе П.Фейерабенда, на наш взгляд, натяжка [21, с. 9]. Однако основной пафос Башляра — пафос поисков новой рациональности, стоящей на уровне задач сегодняшнего и завтрашнего дня — нам близок как никогда. Нас не может не привлекать верность Башляра ценностям рационализма и науки. Да, многие из нас сегодня совсем иначе смотрят на традиционные ценности. Да, и на самом деле чисто модернистская антитрадиционалистская установка, видимо, исчерпала себя. Футуристическое богоборчество - тоже. Безоглядная и слепая вера в Прогресс — тоже. Мы понимаем сегодня, что основная трудность современного человека это — не столько покорение неизвестного в рациональных формах науки и техники, сколько реассимиляция прошлой культуры, исторических традиций, т.е. освоение и “приручение” старого известного. Башляр же, действительно, весь устремлен к рациональному покорению “нового неизвестного” (un nouvel l'inconnu) [61, с. 28].
Человек в интеллектуальной антропологии Башляра — познающее по своей природе существо. Для него нет задания более серьезного, чем познание именно нового неизвестного (математическое конструирование, забегающее “вперед” — основной его метод). Но, как мы считаем (и в этом наше несогласие с Башляром), человек сегодня видится нам уже неплохо овладевшим машиной познания неизвестного, с этим он, в принципе, справляется. Но вот гораздо хуже он научился подчинять разуму и стремлению к добру свои импульсы. Гораздо хуже он способен ассимилировать старое, традиционное, известное, хотя и забытое, превращая его в разум и добро поступков. Наклоняясь слишком далеко вперед в научно-технической активности, человек лишается опоры в традиции. Это как раз тот разрыв, который для Башляра был синонимом прогресса, а для нас он становится чуть ли не залогом регресса или упадка современного человека.
Может быть, ввиду сказанного, надо “сбросить” Башляра с “корабля современности”? Нет, этот футуристический жест мы считаем ошибкой. Башляр дорог нам своей верностью принятым идеалам, идеалам рационализма и гуманизма. Эти идеалы — не абсолюты, их конечность сегодня стала более явной. Но их ценность — пусть относительная — сохраняется и должна сохраняться хотя бы для того, чтобы избежать соблазнов дешевого иррационализма и базарной мистики.
* * *
Замысел Башляра относительно философии можно себе представить таким образом: философия (имеется в виду правильная, современная, иными словами, искомая философия) есть особого рода чуткость разума к своей собственной подвижности, продуктивной по своей природе, несомненным центром которой для Башляра выступает наука, по преимуществу, новая, современная наука. Хлопотливая, внимательная служанка науки? Если угодно, да. Именно такова роль, отводимая философии Башляром–эпистемологом. Действительно, поскольку научные дисциплины ведут себя в истории как своего рода аналоги биологических объектов (скрещиваясь, мутируя, претерпевая сложную динамику роста, замедления развития и т.п.), постольку и философия, для того, чтобы адекватно выразить такую природу науки, ее многообразное, разнородное, “ветвящееся” движение, обнаруживающее прерывистое дыхание живого разума (для его описания Башляр охотно использует такое выражение, как “диалектика”), должна точно также быть фракционной, дифференциальной, дробной, проблемной, предельно открытой. Философия, таким образом, предстает как сверхчувствительный “гальванометр”, отслеживающий в своем специальном языке тонкие ритмы научного эпистемогенеза.
Мы не можем принять такую, сциентоцентристскую трактовку философии. На наш взгляд, как ни важна познавательная проблема как таковая (познают, кстати, не только в науке), но к ее анализу никак нельзя свести философию. В своей вере в науку (с большой буквы — в Науку!) Башляр, на наш взгляд, рискует утратить ту интуицию Целого, без которой нет философии. Схватить в философских понятиях творческую подвижность разума, действующего в науке, это — важная задача философии науки. Но само ее выполнение (к нему, конечно, вся философия никак не сводится), равно как уже и сама ее эксплицитная постановка, требуют как раз проработки в мысли той самой интуиции Целого, интенции на Целое, которые в ясной артикулированной форме отсутствуют у Башляра.
Башляр, однако, предпочел остаться, так сказать, с философским “нулем”, т.е. без специально разработанной метафизики, фиксирующей позитивное высвечивание в эпистемологических понятиях Целого и Единого, но зато максимально чутким к созидающей новое вибрации научной мысли. Эта позиция сознательного, как бы аскетического воздержания от “глобалистских” интуиций при самом внимательном следовании за микродвижениями научного разума не может не вызвать наших поддержки и сочувствия именно потому, что в ней, конечно, опосредованно и неявно присутствует как раз именно то притяжение философа к Целому, без которого нет философии как любомудрия в понятиях.
Философия Башляра, таким образом, предстает как философия эпистемологической детали, живой познавательной “дроби”. А ведь сама жизнь, по верному слову поэта, “как тишина осенняя подробна” [32, с. 111].
* * *
Основным понятием философии науки Башляра выступает понятие прогресса. На наш взгляд, понятие прогресса требует возможности повышения ранга того относительного бытия, на уровне которого разыгрывается вся земная история. Вектор истории должен пересекать эквипотенциальные линии ценностного поля мироздания. В противном случае прогресс не имеет смысла, так как движение во времени без перехода с одного уровня на уровень бытийной структуры большей ценности будет только имитацией настоящего прогресса, только его видимостью. Иными словами, в основе представления о прогрессе, по сути дела, лежит не только некий образ святыни, но и допущение, что приближение к ней в историческом мире человеческих деяний возможно.
Представление Башляра о прогрессе (а именно оно характеризует глубокий мировоззренческий уровень его личности) противоположно тому, о котором нам в виде притчи-сказки поведал Владимир Соловьев [37]. По Соловьеву, весь прогресс в том, чтобы уважить старую и забытую святыню, бережно перенеся ее в будущее через бурные воды исторического потока. Башляр же, напротив, считает, что прогресс состоит в уважении святыни новой, что только новая ценность, созданная в Новое время (Наука), достойна уважения, обнаруживая которое, человек обеспечивает прогресс всей цивилизации. Ревностно служи Науке, неустанно изобретай новые ее формы, решай ее трудные проблемы, реализуй математическую мечту, предписывающую законы реальности — и спасешься! Спасешься именно в становлении, в прогрессе, в росте рациональных ценностей. Вот схема представления о прогрессе у Башляра. Неожиданное обобщение и расширение старой теории в новой, конструирование новых математических форм, свидетельствующих о торжестве абстрактного разума, все усиливающийся разрыв с миром обыденного опыта в новых конструкциях отвлеченной познающей мысли, служащей основой для новой технореальности — вот образ прогресса по Башляру. Каких-либо сомнений насчет возможных Чернобылей и Хиросим, вплетенных в этот процесс динамического и диалектического самодвижения открытого разума, у него не было... Так стоит ли сегодня вообще читать Башляра? Стоит ли читать этого модерниста и сциентиста после Чернобыля, после краха, кажется, всей прогрессистской и модернистской идеологии в социальном эксперименте века? Правильно ответить на этот серьезный вопрос нельзя, на наш взгляд, без понимания того, что секуляризованная европейская культура, начиная с эпохи Возрождения, не есть пустоцвет, не есть простой откат от старых святынь, не есть их однозначное забвение. Считать идеалы гуманизма, рационализма, свободы и прав человека лишенными метафизической и религиозной глубины было бы, особенно сегодня, большой ошибкой.
Действительно, парадоксально, но в самом антитрадиционализме мы видим (в его лучших образцах, по крайней мере) импульс к обретению традицией новых жизненных сил. Башляр — наследник антитрадиционалистских традиций Просвещения с его культом науки и разума. Мы знаем, к чему может привести разгул крайнего антитрадиционализма, своего рода позитивистический сциентистский фундаментализм. Но, как справедливо говорит Варшавский, написавший замечательную книгу–исповедь русского интеллектуала-эмигранта, “реакция против материализма и позитивизма не должна превращаться против евангельского по своему происхождению реформаторского замысла просветительства, и она будет спасительной и созидательной, только если примет и сохранит этот замысел и все доброе, что было достигнуто в борьбе за его осуществление” [6, с. 383]. И в этой борьбе за разум и научное осознание самой науки Гастон Башляр сделал немало добрых дел. И как исследователь, и как преподаватель. Доброе в науке — это, прежде всего, сами научные истины, новые понятия и ходы мысли, это новые способы понимания мира и человека. И в этом смысле демагогическая сциентофобия, мизология, разумоненавистничество, т.е. весь тот иррационализм, который легко подхватывается модой и толпой, следующей за ней, вовсе не спасителен для потрясенного в своей наивной вере в науку человечества конца XX века. Скорее, напротив, он опасен для него, так как может привести его к тому новому “новому средневековью”, в котором место истинной религии и чаемой теократии занимает, увы, идеократия расы или класса, крови или почвы.
* * *
Итак, Башляр — рационалист. Но он весь устремлен к обновлению рационализма. Он стремится его раскупорить, сделать предельно раскрытым, гибким, динамическим и диалектическим. Для этого разум, по Башляру, должен пойти на выучку к современной науке, придти на ее передний край, в лабораторию и к теоретику. Новый рационализм, так он считал, эффективно работает в современной науке, но философы ничего или почти ничего об этом не знают. И поэтому он призывал философов учиться у ученых, у тех, кто делает науку сегодняшнего и завтрашнего дня. Как рационалист Башляр не столько сциентист, сколько сциентоцентрист. Наука для него — живой центр, подлинное сосредоточие всего динамического движения цивилизации.
Башляр — модернист. Модернист в том самом смысле, в каком он — антитрадиционалист, устремленный в будущее, в его конструирование научным разумом. Он, так сказать, научно–рационалистический футурист. Ему лично всегда был близок сюрреализм. Новая поэзия (символизм, футуризм и т.п.) привлекала его внимание как и новая наука. Обновленческий пульс современной цивилизации — пульс действительно учащенный и даже учащающийся и поэтому неудивительно, что сегодня он многими воспринимается как болезненный. Но для Башляра этот ускоряющийся ритм — норма. Норма для того идеала “открытого рационализма”, который он проповедовал с такой страстью. Уловить этот ритм, отобразить его в понятиях — вот задача философа, по Башляру.
Башляр — гуманист. Пусть он и не сосредоточен на чтении античных авторов, как гуманисты итальянского Ренессанса. Он из тех гуманистов, для которых прежде всего Наука воплощает ценности европейского гуманизма. Его кажущийся шаржированным педагогизм (“не школа для общества, а общество для Школы” [55, с. 252]) свидетельствует об этом. Ведь сам феномен республиканско–светской ментальности во Франции во многом держался именно за счет культа школы — новой, демократической, с обязательным преподаванием естественных наук и философии (тоже, конечно, на светский рационалистический лад, чему немало способствовал Виктор Кузен, верный ученик Гегеля*). Башляр — подвижник этой новой секуляризованной школы, аскет от науки, апостол научной культуры, чемпион самообразования, потрясающий книжник и прилежный читатель научной и поэтической литературы. Не получив в молодости стандартного философского образования в Университете (в отличие от своих коллег-философов), он зато прошел трудную — и трудовую — практику жизни, сохраняя привычки и облик жизнерадостного провинциала из Шампани.
Вот кратко жизненный путь его: родился в местечке Бар-сюр-Об 27 июня 1884 г. Окончил местный колледж, с 1902 г. — репетитор в колледже Сезанн, а с 1903 по 1905 г. — сверхштатный служащий Почты в г.Ремиремоне. С 1905 по 1907 гг. — военная служба конным телеграфистом, с 1907 по 1913 гг. — почтовый служащий в Париже. 1912 г. — лиценциат по математике. 1913–1914 гг. — подготовка к экзаменам на инженера. С 1914 г. по 1919 г. – на передовой первой мировой войны. Военный крест. 1920 г. — лиценциат по философии. 1922 г. — агреже по философии, преподает философию и продолжает преподавать физику и химию в коллеже Бар–сюр–Об, а в 1927 г. защищает в Сорбонне диссертацию, которой руководят Абель Рей и Леон Брюнсвик. С 1919 г. по 1930 г. преподает физику и химию в коллеже Бар–сюр–Об, затем профессор философии в Дижоне. А с 1940 г. по 1954 г. профессор Сорбонны (кафедра истории и философии науки) и одновременно директор Института истории науки. В 1951 г. получает Орден Почетного Легиона, в 1954 г. — почетный профессор Сорбонны, в 1961 г. — почетная Гран При в области литературы. Умер 16 октября 1962 г. За это время Башляром создано около 30 книг, причем объем печатной продукции почти симметрично делится между эпистемологией и теорией воображения и поэзии. Провинциал и аутсайдер в университетском мире, Башляр своим талантом и трудом завоевал репутацию первого эпистемолога Франции.
* * *
Каждый, кто занимался историей науки, размышлял над ее философскими, методологическими и культурологическими проблемами, наверное, не мог не почувствовать, что те истории, о которых он мечтает, еще не написаны. Интересно, хотя бы в первом приближении, прорефлектировать этот “туманный образ” искомой истории, опираясь на собственный опыт. Даже беглый анализ истории историко–научных исследований показывает изменение того, что в каждую историческую эпоху считается уместным или релевантным для написания истории науки. Говоря о релевантности, мы имеем в виду то, что другими словами можно было бы обозначить как модельный образ истории науки, которым в своей работе руководствуется историк. В состав такого образа входит то, что нормами господствующего в данную эпоху историографического мышления считается обязательным для написания истории науки (например, биографические сведения об ученых, прослеживание генезиса их научных вкладов, изложение содержания их новаций, характер преподавания наук, уровень и состояние культуры, экономики, техники и т.п.). Все эти компоненты, как и некоторые другие, входят в состав того, что сообщество историков в данный исторический период считает уместным или даже обязательным для написания истории науки. Почему именно такая характеристика входит в состав стандартного образа истории науки, а другая – нет, об этом сам историк может и не знать. Но если историку–практику как эмпирику позволительно этого и не знать, то историк-теоретик обойтись без этого знания просто не может. Причины, определяющие выбор образцов для написания истории науки, он должен сделать предметом своего теоретического осознания.
Прежде всего, историк–теоретик должен разобраться в структуре этих компонент. Действительно, одни из них могут относиться к причинному уровню исторического анализа, другие, так сказать, к “аккомпанементу” исследуемого историко–научного события. Иными словами, компоненты указанного образа несут специфическую, качественно различную нагрузку в структуре исторической реконструкции.
Одной из задач историка–теоретика является изучение динамики или эволюции таких стандартных образцов истории науки, прослеживание смены или роста числа компонент, входящих в них. Эта задача усложняется уже тем обстоятельством, что одновременно существует несколько типов исторических исследований науки. Правда, указанную задачу можно выполнить, рассматривая один и тот же тип в диахронии.
Сделав эти предварительные замечания, мы выдвигаем такую гипотезу: нам представляется, что в первом приближении аттрактором эволюции истории науки выступает расширение списка релевантных для исторической реконструкции моментов. В ходе такой эволюции происходит и увеличение числа типов исторического анализа. Расширение зоны релевантности показывает, иными словами, рост связности, “контекстуальности” культурной ткани, на которой как на основе историк “вышивает” свой специфический “узор”.
На содержательном уровне анализа направленности эволюции историографической мысли следует отметить своеобразную ее инверсию. Действительно, историки, работавшие в поле притяжения философии логического позитивизма и исследовавшие прежде всего логическую проблематику научного знания, редуцировали науку к ее фундаментальным когнитивным структурам. При этом анализировались основания наук, их аксиоматика и т.п. Иными словами, вектор мышления, изучающего массив научных знаний, фокусировался компактной логической структурой. Такая ориентация исторического анализа сложилась под определенным влиянием самой науки, в частности, научной революции начала века. Мы имеем в виду прежде всего теорию относительности с ее парадоксальным, но оказавшимся чрезвычайно плодотворным проблематизированием базовых понятий механики, а также и квантовую механику с ее еще более революционным подходом к физической реальности. Именно этот теоретический фундаментализм во многом и задал тот образ истории науки, который стал складываться в середине XX века.
Концепция истории науки Башляра, опирающаяся на определенное понимание науки, выходит за рамки логико–позитивистской парадигмы ее анализа и подводит к новой историографической ситуации, в то же время сохраняя позитивную связь с такого рода теоретическим фундаментализмом. Поэтому и можно говорить, что в своем эпистемологическом творчестве Башляр осуществляет инверсию концепции науки и ее истории. Новый горизонт анализа науки раскрывается как социокультурный контекст, в который наука не вплетена как инородное ему “тело”, а составляет его органическую часть. Иными словами, именно Башляр (хотя и не он один) делает шаг в этом направлении, в соответствии с которым наука рассматривается как социокультурная активность, нацеленная на извлечение истины (о) природы(е), что и лежит в основе ее специфики как культурной формы. Отныне, после Башляра, разделить анализы культуры и науки стало уже невозможным*. На пути развития такой инверсии социальные, культурные и исторические значения проникают в самые святая святых когнитивной структуры науки — вплоть до методов доказательства, систем аксиом, основных теоретических понятий. На пути экстраполяции указанной тенденции оформляются редукционистские программы социологии знания. Однако подобная смена ориентаций вовсе не ведет к бесследному исчезновению ранее накопленных приемов и методов анализа истории знаний. Иными словами, интернализм вовсе не вытесняется “без остатка” экстернализмом. На самом деле происходит обогащение историографии, умножение типов и форм исторического анализа, расширение зоны релевантности социокультурного “контекста” исторической реконструкции. В соответствии с этим растет культурный и научный потенциал истории науки, расширяется спектр тех ролей, которые она может играть в современной культуре. Весь этот процесс преобразования историографического и эпистемологического мышления мы не можем себе адекватно представить без понимания того, что внес в него Гастон Башляр.
Образ науки и ее истории во французской историографии и эпистемологии до работ Башляра можно кратко охарактеризовать набором из трех “измов”: индуктивизм, кумулятивизм, континуализм. Выдающимся представителем этого типа историографии был Пьер Дюгем (1861-1916 гг.). Дюгем был убежден в неизменности человеческого разума. “От Платона и до наших дней, — говорил он, — способности, которыми располагает человеческий разум для отыскания истины, оставались теми же самыми” [73, с. 424]. Из этого постулата следует концепция кумулятивизма и континуализма, подкрепляемая индуктивистской концепцией науки. Дюгем считал, что между эмпирическим и теоретическим знаниями существует “непрерывная и взаимная коммуникация”, что теория плавно продолжает эмпирическое знание и что эта непрерывность определяет и историю знания.
Индуктивистская концепция научной теории приводила Дюгема и к вполне конкретной историографической программе, которую удобно обозначить как континуалистскую. В рамках такой концепции на первый план исторического анализа выступала задача выявления предшественников изучаемого события в истории науки. Классические работы Дюгема продемонстрировали наличие предшественников для Леонардо (Альберт Саксонский), Коперника (Николай Орем) и т.д. В итоге вся история научной мысли предстала как своего рода непрерывное накопление знаний (кумулятивный ряд), как предвосхищение будущих свершений. В известном смысле Дюгем стремился подвести континуалистскую базу под свою “физику качеств”, которая как феноменалистская и континуалистская теория была одновременно и соответствующей основой для его историографии. Постепенное “давление” растущего эмпирического базиса на теоретическое развитие отвечало принципам индуктивизма, составлявшего основу позитивистской концепции науки.
Обнаружение неадекватности индуктивизма для понимания генезиса новых физических теорий (теории относительности и квантовой механики прежде всего) послужило одной из причин перехода к новому — дисконтинуалистскому — мышлению в историографии. По оценке Эйнштейна, “индуктивного метода, который мог бы привести к фундаментальным понятиям физики, не существует. Неспособность осознать этот факт составляет основную философскую ошибку очень многих исследователей XIX в.” [42, с. 128]. И когда Холтон, цитирующий эти слова великого физика, говорит, что “в наши дни эйнштейновский антииндуктивизм воодушевил некоторых из наиболее интересных философов науки” [42, с. 130], то, хотя он вероятнее всего имеет в виду К.Поппера, однако, в не меньшей степени эти слова должны быть отнесены к Башляру, который несколько раньше Поппера и независимо от него пришел к своему антииндуктивизму, исходя как раз из осмысления теории относительности.
* * *
Предлагаемая читателю работа написана не как обычный историко–философский компендиум по избранному герою мысли. В ней нет ни подробной биографии Башляра, ни специального анализа того, кто и в какой степени на него влиял (об этом говорится только по ходу дела). В таких историко-философских и биографических работах, по крайней мере на Западе, недостатка не было и нет [45, 68, 74, 79, 80, 92, 105, 109, 111, 117–119]. Не затрагивается в нашей работе как особая проблема и то, что, условно говоря, можно назвать “школой Башляра”. Правда, мы не могли не отмечать, но опять же по ходу следования избранному нами плану анализа, вырастающих из эпистемологического наследия французского мыслителя ходов мысли, слагающих в результате их развития целые направления современной критики и эпистемологии. Данное исследование довольно жестко фокусировано проблемой историчности научного знания, лежащей, по нашему представлению, в центре эпистемологии Башляра. Учение Башляра об историчности научного разума рассматривается нами с учетом той перспективы, которую образует линия Башляр — Кангилем — Фуко. Содержащаяся в таком подходе условность рассмотрена нами в Заключении. Его оправданность мы видим уже в том, что эпистемологическая мысль во Франции действительно во многом ориентировалась этой “силовой” линией. Как к этому относиться сегодня — это уже другой вопрос, на который мы кратко пытаемся ответить в конце книги.
Образ науки, ее эпистемологическое представление зависят от многих факторов, среди которых выделяются два: во–первых, характер самой науки, во-вторых, ее восприятие обществом и прежде всего его философским сознанием. Так, например, ньютоновская механика во второй половине XVIII в. после окончательного отказа от принципов картезианской физики была воспринята как естественная, адекватная самому разуму конструкция. При этом предполагалось, что рациональное познание прогрессирует, но природа самого разума неизменна, будучи корректно представлена в механистической картине мира, ядром которой стала механика Ньютона. При этом философия связывается с наукой этой эпохи таким образом, что между ними устанавливается своего рода равновесие. Установившееся равновесие философии и науки может, однако, нарушаться прежде всего тогда, когда наука радикально и быстро преобразуется. Подобная ситуация и возникла в первые десятилетия нашего века. В период такого дисбаланса приходят к осознанию того, что понять работу науки как познающего устройства невозможно без специального историко–научного анализа, без изучения исторической динамики науки. Механика разума и конструкция науки начинают рассматриваться как исторические в самой своей сути. В результате такого поворота эпистемологического сознания историческое измерение признается конститутивным сущностным фактором науки как когнитивной системы.
В такой историзации рефлексии науки значительная роль принадлежит именно французским историкам и философам (П.Дюгем, Э.Мейерсон, Э.Мецже, А.Койре, Г.Башляр). По разным причинам в начале нашего века и в первые его десятилетия исторические исследования науки во Франции явно доминировали над ее логическими исследованиями. Этому способствовала и ориентация французских математиков и философов математики, довольно равнодушных в это время к проблемам, вызванным кризисом оснований математики, и к возникшему в связи с ним формалистическому направлению. Если в неокантианстве и неопозитивизме, грубо говоря, осознание научной революции в физике приводило к поиску новой априорной структуры разума, адекватной новой познавательной ситуации, то в традиции французских исследований науки признавалась внутренняя лабильность и историческая изменчивость самого разума. Башляр, пожалуй, ярче других выразил эту тенденцию, приведшую у него к созданию настоящей “исторической эпистемологии”, краткой формулой которой служат его слова “наука наставляет разум”.
Это “наставление” разума со стороны меняющейся науки означает, что абстрагированная от исторической динамики науки познавательная способность (разум) — только пустая конструкция философов, попавших под чары идеи тождества (как, например, Мейерсон, главная мишень критики со стороны Башляра). Конечно, в самих содержательных акцентах осмысления уроков научной революции, например, у неокантианцев, с одной стороны, и у Башляра, с другой, мы найдем немало общего (особенно, если мы возьмем труды Кассирера, в которых, например, развиваются идеи замены субстанциализма функционализмом и реляционизмом [22, 23]). Но, пожалуй, только Башляр безоговорочно подчинил разум динамике науки. Здесь к нему были близки только отдельные философы, в особенности Ф.Гонсет (1890–1975), разрабатывавший свой вариант “открытого рационализма” [93, 94]. Но в отличие от всех этих философов Башляр не замкнулся на анализе науки, а исследовал параллельно и структуры поэтического воображения. Подобное размыкание традиционной гносеологической рефлексии с поворотом к истории и культуре наметилось у него и внутри эпистемологии и привело к тому, что после Башляра уже нельзя было рассматривать науку вне культурно–исторического контекста [115, с. 27–28].
Импульс, данный эпистемологической мысли творчеством Башляра, был усвоен прежде всего представителями структуралистской волны, которая, в конце концов, вышла далеко за пределы Франции. Однако, как это справедливо подчеркивает Редонди, “идеи Башляра, особенно за границей, легко банализируются” [113, с. 21]. В нашей стране (конечно, не только в ней) эта банализация или упрощение мысли Башляра проявлялась прежде всего в подмене анализа идеологическими вердиктами, которые строились по заданным клише (обязательные срывы любого мыслителя, признанного “буржуазным”, в “идеализм” и в “метафизику”). Правда, к счастью, идеологический пресс (как бы ни искажал он понимание философии) не был всесилен. Даже в деформированной форме и в отечественной методологии и философии науки развивались представления, в которых делалась попытка без оглядки на идеологию осмыслить новые познавательные реалии, открытые наукой XX в. Поэтому совсем неудивительно, что некоторые понятия, темы, подходы и установки Башляра легко узнаваемы в некоторых работах наших лучших отечественных логиков, методологов, философов (кризис наглядности в физике, роль абстракции, новое соотношение теории и эксперимента, связь математики и физики в науке XX века, понятие моделирования и т.п.). Извлекаемый из факта научной революции века в условиях обязательной госидеологии эпистемологический урок не был абсолютным нулем, хотя под подобным прессом невозможно было не изобретать “велосипеды”, совершая при этом и массу рутинной и в целом вредной работы по “критике” и “разоблачению”.
Предпринятое нами исследование — попытка как раз противостоять подобному уплощению и упрощению взглядов Башляра, опираясь на спокойный, обстоятельный и целенаправленный анализ некоторых основных моментов его эпистемологии, связанных с проблемами методологии истории науки. Нас почти исключительно будет интересовать то, как осмысляется историчность научного познания Башляром, какие понятия он выдвигает для этого и к какой историографической концепции приходит в результате. В соответствии с этой задачей мы должны будем рассмотреть башляровскую концепцию развития науки, проанализировать вызывавшие оживленные дискуссии представления философа о его дисконтинуальном характере, затронув при этом психологический и отчасти социокультурный контекст науки, особенно в связи с анализом выдвинутого Башляром представления об эпистемологических препятствиях. Хотя связи эпистемологии Башляра с историей науки и рассматривались рядом авторов [18, 19, 45, 75, 113, 119], однако специализированный подробный анализ историко-научной проекции эпистемологического наследия Башляра, насколько нам известно, не проводился.
Эта книга складывалась в Институте истории естествознания и техники АН СССР, где автор выступал с докладами о значении эпистемологических понятий Башляра для методологии истории науки. Окончательное завершение рукопись книги получила в стенах Института философии. Автор пользуется случаем, чтобы выразить свою благодарность всем высказавшим свои критические замечания и стимулировавшим тем самым работу над рукописью, в частности, П.П.Гайденко, М.А.Розову, Н.И.Кузнецовой, Л.А.Марковой, М.А.Кисселю, В.Н.Катасонову.
С благодарностью вспоминаю Б.С.Грязнова, давшего первый импульс для моих занятий французской эпистемологией.
Глава первая
Концепция приближенного познания
Анализ эпистемологии Башляра целесообразно начать с рассмотрения его “Исследования приближенного познания”, вышедшего в свет в 1927 г. [48]. В этом же году Башляр выпускает историко–физическую работу “Исследование эволюции одной физической проблемы. Распространение тепла в твердых телах” [47]. Сравнивая эти книги, можно убедиться в общности их замысла: эпистемологическая работа развивает ту теоретическую концепцию науки и ее развития, которая на специальном материале применена в исторической работе. Однако между ними есть и различие. В исследовании по истории изучения теплопередачи разбирается исключительно материал классической физики, а в эпистемологическом трактате мы находим самый разнообразный исторический материал, включая прежде всего физику микромира. Что касается теории относительности, анализу которой Башляр посвятил особую работу [49], то она лишь мимоходом упоминается в его эпистемологическом трактате и сознательно оставлена за рамками его проблематики. Теория относительности — в глазах Башляра — носит слишком новаторский характер, чтобы быть образцом для эпистемологического анализа. Как говорит философ, она порывает с самим принципом классического физического измерения, расщепляя его “атом” [48, с. 48]. “Релятивист, — замечает Башляр, — претендует на то, чтобы работать внутри самого инструментального атома, который физиком лаборатории фиксируется в качестве непреодолимого ограничения для его исследований... Таким образом, теория относительности предстает как уточнение (rectification) самой процедуры измерения (corps de mesure). Поэтому мы не без оснований, как нам кажется, исключаем ее из нашего анализа” [там же, с. 48]. И хотя оброненное слово об исправлении или уточнении могло бы означать возможность ее анализа в плане развиваемого здесь Башляром подхода, однако не на ней строит свою концепцию приближенного познания философ.
1. Эпистемологическое значение физики
микромира
Ключевым историко–научным феноменом для всей теоретической и историографической концепции Башляра оказывается микрофизика. Развитие физики атома и квантовой механики, которая только еще создавалась в то время, когда Башляр писал свой эпистемологический трактат, привели его к глубокому убеждению, что, проникнув в микромир, человек столкнулся с совершенно новым классом объектов, требующих для своего познания нового мышления. Феномен микромира, с одной стороны, вписывается Башляром в концепцию “фракционной онтологии”, разбивающей познаваемую реальность на “фракции” или сферы с характерными для каждой из них “порядками величины” (les ordres de grandeur). Но, с другой стороны, он представляет собой не просто одну из “фракций” физической реальности. Микромир, для Башляра, — это парадигма мира вообще, микрореальность — модель реальности в целом. Как говорит Башляр, “реальность микромира индивидуальна и полна событиями и новизной” [48, с. 277]. Именно эти характеристики Башляр выбирает для определения реальности как таковой: “Реальность, — подчеркивает он, — всегда индивидуальна и никогда не бывает статичной” [там же, с. 277]. Сравнивая эти определения микрореальности и реальности, мы видим, что понятие микрофизической реальности служит Башляру матрицей для задания представления о реальности вообще. Но не только онтология, но и эпистемология конструируется на основе анализа микрофизики.
Действительно, познанию микромира отвечает “микроэпистемология” [там же, с. 279]. Ее основу составляет то, что случайность (la contingence) выступает здесь не как нечто субъективное, а как объективное определение самой реальности. Прежде всего это проявляется в статусе ошибки. Если сравнить классическую физику и отвечающий ей мир обычной реальности с квантовой физикой и ее миром, то обнаруживается, что функции ошибки в обоих случаях принципиальным образом различаются. “Действительно, — говорит Башляр, — если познание еще можно совершенствовать, если даже оно само может определить и измерить относительность своей ошибки или погрешности, то мы еще не достигли микроаналитического уровня” [48, с. 280]. Но если ошибка “действительно инкорпорируется в познание до такой степени, что становится его неизбежным и, более того, существеннейшим моментом, то случайность должна приниматься на данном уровне в качестве позитивного элемента”, т.е. элемента самой реальности [там же, с. 280]. Иными словами, “эта случайность существует, — заканчивает свое рассуждение эпистемолог — и существует как очевидный факт в микромире” [там же]. Онтологический же статус случайности требует соответствующей микроэпистемологии.
Концепция микроэпистемологии — ядро эпистемологии Башляра. По сути дела именно на ее основе складывается его понимание познающего мышления вообще, формируется понятие “нового разума”, которое впоследствии раскроется в концепции “нового научного духа”. Башляр как бы выделяет две теории познания: теорию познания обычного мира и теорию познания микромира. Объекты, с которыми имеет дело первая, это обычные объекты близкого для человека мира, близкого ему по масштабам, прежде всего. Это — тела нашего повседневного опыта, подчиняющиеся евклидовой геометрии, это мир социальный [48, с. 280], это, короче говоря, весь “прилегающий” к человеку мир. В таком мире действует принцип детерминизма (механического), законы обычной логики (тождества, непротиворечия, исключенного третьего). Этот мир живет “равенствами, — говорит философ, — и логикой” [48, с. 279]. Но микрообъекты или объекты “микро–познания” (la micro–connaissance) “не обладают такими качествами” [там же]. Хотя здесь уже намечена тема разрывов (причем разрывов не только в познании, но и в самой реальности), Башляр пока ее не развивает, оставляя для будущего. Но вся его концепция уровней или, как он предпочитает говорить, “порядков величины”, служит в итоге онтологическим обоснованием его знаменитой концепции эпистемологических разрывов.
Почему же концепция приближенного познания тесно связана с концепцией микроэпистемологии, представляя по сути дела лишь реализацию последней? Эта связь уже была намечена нами, когда мы говорили об онтологическом статусе ошибки в микромире, о “реализме случайного”, для него характерном. Действительно, иного способа познания, как через приближение, через использование понятия вероятности, здесь быть не может, раз стохастична сама реальность. Правда, при этом оказывается, что и классическая физика получает статистическую интерпретацию, но уже фактически в отраженном от микрофизики свете. И именно так и обстоит дело у Башляра, что напоминает концепция физики развитую Максом Борном [4].
Подвижность (лабильность) и неподвижность (стационарность) — этими противоположностями не исчерпывается контраст между характеристиками микромира, с одной стороны, и обычного мира, с другой, которые им дает Башляр. Кроме того, в обычном мире мы находимся в сфере счетного, именно, конечно–счетного, в царстве арифметики с ее дискретностью, а в мире микрообъектов царит непрерывность. И эта характеристика (непрерывность) дается Башляром микромиру, для описания которого типичны, как мы знаем, именно дискретные представления (квантовая механика). Как же это тогда нужно понимать? Дело в том, что сама непрерывность, о которой здесь говорит Башляр, это “непрерывность аберрации” [48, с. 281], непрерывность как онтологическая неопределенность. Микромир — источник бытия, как бы его “квинтэссенция”. Бытие есть действительно бытие (т.е. мир, независимый от человека, мир с его “странностью” и незавершенностью) постольку, поскольку оно приобщено к стихии микромира. Башляр не разбирает здесь эпистемологии атомной физики своего времени, он не касается известных в то время элементарных частиц. Он просто называет объект микромира “бесконечно малым” [там же, с. 281]. Но это “бесконечно малое”, подчеркивает эпистемолог, лишено фигуры и не знает покоя в своем движении.
Резюмируем наш анализ концепции микромира у Башляра. Прежде всего обратим внимание на только что нами приведенное определение микрообъекта: не знает покоя (sans repos). По сути дела, основой для концепции бытия выступает здесь понятие становления. Хотя Башляр прямо об этом не говорит, но это следует из всего его построения и позволяет нам глубже проникнуть в философскую подоснову эпистемологической мысли Башляра.
Становление как основа онтологической интуиции философа приводит его к динамической эпистемологии. Свою интеллектуальную задачу в условиях научной революции XX в. Башляр осознает как задачу создания именно динамической и поэтому адекватной новой науке эпистемологии. Онтологическая незавершенность и подвижность дополняется гносеологической: “Фундаментальную незаконченность познания, — говорит он, — вот что мы принимаем за постулат эпистемологии”[48, с.13]. “Познавательный акт, — подчеркивает философ, — не является полным актом” [там же]. Он всегда стационарен и уже поэтому не может не искажать реальность. “Его легкость, — говорит философ, — плата за его ирреальность”, т.е. за его отклонение от реальности [там же]. И если уж говорить об аутентичности представления познавательного акта, то она не мыслима вне схватывания его зарождения. Лишь in statu nascendi познавательный акт вполне аутентичен: “Познавательный акт должен быть схвачен в состоянии своего рождения, так как только в этом случае он обладает реальным смыслом. Будучи устоявшимся (affermi), он становится простым механизмом как и любые другие акты. Только в своем первоначальном импульсе (élan) он является открытием полным неопределенности и сомнительности” [48, с. 25]. Башляр в силу своей исходной задачи дать динамическую эпистемологию, отвечающую революционным преобразованиям науки первой трети XX в., строит свою теорию познания. В ней, помимо отмеченного выше, главными моментами выступают: во–первых, принцип взаимосвязности или же принцип системности познавательных средств (иными словами, они значимы как целостная система) и, во–вторых, принцип непрерывной критики познанием своих собственных построений, принцип исправления и уточнения его результатов вместе с принципом их непрерывной верификации.
2. Основные черты теории познания Башляра
Башляр пересматривает распространенные в его время в университетских кругах Франции теории познания и многие из них подвергает суровой критике (априоризм, прагматизм Джеймса, бергсонианство и др.). И пробным камнем их оценки для него выступает как раз требование динамичности как ведущего норматива для понимания познания в XX в. Познание, по Башляру, есть проявление меняющейся взаимосвязи субъекта и объекта, познаваемого предмета и его предикатов, раскрываемых в познании. Познание — это особая система. Мышление, подчеркивает философ, начинается не с понятий как таковых, а с их связывания в единое целое [48, с. 25]. Только концептуальное целое несет объективный смысл. Безотносительно к нему отдельные познавательные фрагменты не несут эпистемологической нагрузки и онтологически не значимы. Исходя из этого и развивая свою ведущую онтологическую интуицию (бытие понимаемое как становление), Башляр подчеркивает зависимость категории сущности от категории отношения: “Отношение, — подчеркивает он, — обратно воздействует на сущность” [48, с. 27].
Если познание рассматривать как схватывание реальности в идеях, то оно оказывается эффективным и достоверным только тогда, когда идеи выступают в своей взаимосвязи. “Изолированная идея, — подчеркивает Башляр, — всегда будет субъективной, искусственной. Но идея, которая уточняется, исправляется, дает в своих различных определениях органическую группу или целое (groupe). И именно это целое получает знак объективности. Другими словами, объект — это перспектива идей” [48, с. 246]. Башляр, в отличие от некоторых современных методологических учений, не различает объект и предмет познания. И поэтому выражение “объект” несет у него двойную нагрузку, обозначая одновременно и сам теоретический конструкт, изменяющийся в ходе уточняющегося познания, и предмет познания, к описанию которого оно устремлено.
Основу объективности научного познания задает, по Башляру, процедура измерения. В этом плане он не приемлет утилитаристской концепции познания, включая и прагматизм: “Нет объективности, — говорит философ, — в утилитарном восприятии, так как оно по сути дела есть отношение между вещью и субъектом, в котором субъект играет определяющую (primordial) роль. На путь объективности вступают только тогда, когда две вещи ставят во взаимное отношение, конечно же, через посредство субъекта, но редуцируя при этом его роль и заботясь о том, чтобы эта роль была одинаковой для обеих соотносимых вещей с тем, чтобы позволить ее затем корректно устранить. И это–то и есть сама идея измерения” [48, с. 246].
Именно из рассмотрения измерения как основной объектирующей процедуры следует та высокая оценка математики как источника научности в науках о природе, которая характерна для Башляра на протяжении всего его творчества. “Измерение, — говорит философ, — это описание в новом языке, наделенное ясностью, точностью, универсальностью, которые традиционно признаются за языком математики” [48, с. 52]. Принцип измерения Башляр называет “метафизическим постулатом современной физики” и определяет его следующим образом: “То, что измеряют, существует, и его знают в той мере, в какой измерение является точным” [там же, с. 52–53]. Он подчеркивает, что это утверждение конденсирует в себе “всю научную онтологию и всю эпистемологию физика” [там же]. Причем, что весьма существенно, этот постулат четко осознается самими физиками. Башляр рассматривает взгляды великих физиков (Био, Кельвин, Максвелл, Эддингтон) на значение и роль измерения в физических науках, показывая, что все они сходятся в утверждении того, что основой как объективности физики, так и ее практического успеха является именно точное измерение.
Отметим еще одну важную черту эпистемологии Башляра, развиваемой в его трактате о приближенном познании. Одним из моментов формирования динамической эпистемологии выступает у Башляра требование конструктивности. Речь идет об отказе оперировать с объектом познания как с непосредственной данностью. Вообще точка зрения “данности” и “непосредственности” в истолковании процесса познания, по Башляру, должна быть решительно оставлена и заменена постулатом активности и опосредования связи субъекта и объекта познания. “Если мы хотим познавать с максимумом строгости, — говорит философ, — то должны так организовать наши познавательные акты, чтобы полностью заместить данность конструкцией” [48, с. 174]. Непосредственный чувственный контакт субъекта с предметом познания — только помеха на пути объективного познания в современной ситуации. Всюду наука, как замечает Башляр, обращаясь к истории физики и химии, заменяет эмпирические константы теоретическими конструкциями, расширяя тем самым область рационально объясненного.
Башляр не разделяет индуктивистской методологии как доктрины, сводящей теорию к обобщению эмпирических данных. Уже такая простейшая система рационализации реальности, как арифметика, подчеркивает эпистемолог, не является непосредственной эмпирической данностью. Впрочем, здесь, как нам представляется, легко впасть в крайность антиэмпиристского априоризма, избежать которую хочет и Башляр. Между этими двумя крайностями (эмпиризм и априоризм) Башляр ищет свою позицию, которая выступает у него как рационалистический конструктивизм или динамический рационализм.
Свою основную эпистемологическую задачу Башляр формулирует так: “Надо объяснить познание в его внутреннем динамизме, опираясь на его собственные элементы” [48, с. 245]. Это программное заявление указывает на основные характеристики всей его концепции: динамизм и имманентизм, оборачивающийся в историографии науки интерналистской установкой. Впрочем, эта интерналистско–имманентистская установка не столь уж строго выдерживается Башляром. Но об этом речь пойдет в дальнейшем. Здесь же только подчеркнем связь принципов конструктивизма и критицизма по отношению к непосредственности и данности (рассматриваемых как исходные моменты при истолковании научного познания) с неизбежностью нарушения догматического имманентизма и интернализма. Действительно, исходной точкой познавательного процесса не может считаться непосредственная данность как таковая. Ведь эта данность — не неизменная природная “реалия”, а историко–культурная переменная. Иными словами, если данность существует не сама по себе, а зависит от общества, истории и культуры, то не может быть речи о догматическом имманентизме: познание в этом случае должно неминуемо пониматься через социоисторический контекст культуры и практики. Это у Башляра и происходит, но непоследовательно, ограниченно и противоречиво. Так, например, критически оценивая “непосредственные данные сознания” (термин Бергсона*) как основу для объяснения познания, он замечает, что эти данные или эта “данность соотносительна культуре”, что она “необходимо имплицирована в конструкцию” [48, с. 14]. Но под этой “импликацией” в культуру он имеет в виду не более, чем простую оформленность данности, с чем вполне согласуется и априоризм, избежать которого стремится Башляр. Если эту оформленность оставить на уровне категории формы, описав саму форму как априорную, то замечание о культурной соотнесенности повисает в воздухе, и попытка преодолеть априоризм остается неудавшейся. И это действительно происходит у Башляра. Того ресурса преодоления априоризма, который он черпает в динамике научного разума, оказывается явно недостаточно, поскольку речь идет о выработке философии научного познания. Ассимилировать динамику науки Башляру мешает узость горизонта его собственной философии, проявляющаяся в том, что он с трудом и как бы неохотно концептуализирует тот источник преодоления априоризма, который содержится в тематизировании культуры, истории и социальной действительности в ее конкретике.
3. Научное познание как исправление ошибок
Исходя из задачи создания динамической эпистемологии*, Башляр строит свою концепцию приближенного знания как непрерывного исправления ошибок (rectification)**. В соответствии с этим в исправлении и уточнении результатов познания и состоит искомая динамика познавательного процесса. Только “исправление ошибок, — говорит философ, — позволяет в деталях анализировать динамизм познания” [48, с. 248].
Основная проблема теории познания — проблема истины: “Мы не нашли возможного решения проблемы истины ни в чем другом, кроме как в устранении все более и более тонких ошибок” [48, с. 244]. Идея истины как последовательного процесса уточнения знаний вместе с идеей о том, что основу объективности научного описания образует процедура измерения, приводят Башляра к его концепции уровней познания (ordres de la grandeur), куда невозможно проникнуть, минуя современную лабораторию. Если эпистемолог войдет в будничную практику экспериментатора, то он, считает Башляр, гораздо глубже поймет современную науку и современный разум, чем пребывая в философских абстракциях и общих местах. Именно здесь, в лаборатории, вершится подлинное “приближенное познание”. И так как в лаборатории результаты достигаются с помощью измерений с применением математического аппарата, в том числе теории измерений, то, как говорит философ, видно, что “все усилия экспериментатора направлены на завоевание нового десятичного знака” в определении физической величины [48, с. 76]. И возникающую на основе такой установки онтологию Башляр называет “реализмом десятичного знака” (le réalisme de la décimale) [48, с. 77]. Это означает, что количественно фиксируемые уровни отвечают специфическим единствам, качественно своеобразным “мирам” физической реальности, которые связаны между собой прежде всего прогрессом познания, его действительно приближенным характером. Так концепция уровней или “порядков величин” оказывается тесно связанной со всей концепцией приближенного познания как совершенствующегося исправления ошибок. “Порядок величины, — говорит философ, — является первым приближенным знанием, изолирующим явления, устраняющим из акта познания случайные расхождения” [48, с. 78]. Определение порядка величины в физике — “первый акт приближенного мышления”, подчеркивает Башляр и приводит в качестве примера историю с определением числа Авогадро Перреном. Важным результатом работ Перрена было то, что определенное с помощью 14 методов число Авогадро получилось сходящимся именно на уровне порядка величины, хотя потом оно и было определено более точно. Устойчивость порядка величины послужила в данном случае подтверждением самой гипотезы Авогадро.
Башляр разрабатывает целую теорию ошибки. Прежде всего он отвергает традиционные теории познания, в том числе неокантианские, на том основании, что в их построениях нет места ошибке, что исходя из их постулатов невозможно объяснить саму ее необходимость. “Одним из самых грозных возражений против идеалистических тезисов, — говорит Башляр, — является неизбежное существование ошибки, которая по природе не может быть устранена, обязывая нас удовлетворяться приближениями” [48, с. 13]. Но именно ошибка, подчеркивает Башляр, “является двигателем познания” [48, с. 249]. Ее необходимость коренится в том, что “совпадение между мыслью и реальностью, — подчеркивает философ, — это подлинный эпистемологический монстр” [там же, с. 43]. Натолкнуться на точное знание невозможно. К нему можно только приближаться через исправление и уточнение познанного.
Понятие ошибки, кроме того, связано у Башляра с его пониманием роли детали в познании. Обобщая развитие физики, Башляр приходит к выводу, что физика развивает такие методы, которые стремятся установить максимальное число деталей в описании явления [48, с. 45]. Впрочем, детализация описания не означает, что при этом отрицается многоуровневость физической реальности. Оба момента органически сочетаются. И при таком понимании научного познания роль ошибки делается понятной.
Приближение и исправление только по видимости расходятся друг с другом. На первый взгляд, рассуждает Башляр, может показаться, что приближение предполагает движение к объекту познания, а исправление означает приведение познания в соответствие с его идеалами и нормами. Но на самом деле в принципе оба движения — одно, и “кинематика” движения к объекту познания совпадает с “кинематикой” движения познания к его “идеалу”. “Ищут ли точное знание, ищут ли объект — все это одно и то же движение”, — говорит Башляр. Эта мысль о принципиальном тождестве движений к познавательному идеалу и к самому познаваемому предмету нам представляется плодотворной. Ведь, в конце концов, сам идеал, сами нормы познания задаются требованием соответствия познания познаваемому предмету. Истина — вот тот фокус, в котором соединяются воедино эти только по видимости противоположные требования.
Мы уже говорили о том, как, по Башляру, оправдывается решающая роль измерения в научном познании. В выполнении этой функции, в устранении субъективности и проявляется исправление ошибок, уточнение результатов, как количественных, так и качественных. Исправление ошибок, таким образом, оказывается “подлинной эпистемологической реальностью” [48, с. 300], так как в ее процедурах — очень многоликих — развертывается процесс объективации знаний, их уточнения и приближения к реальности. Башляр разбирает эти процедуры на материале физических наук, а также и в математике, где разрабатываются приближенные методы решения задач. Именно математическая модель приближенного метода служит по сути дела основой и для эпистемологической концепции приближения.
Математические понятия позволяют, может быть, с максимальной чистотой выразить динамику познания как рационализации реальности. Контакт непрерывной интуиции с дискретностью числа, контакт геометрии и арифметики, пространства и времени, с одной стороны, и метрики, числовых определений, с другой, осуществляется, по Башляру, в математических формах контакта ума и познаваемого объекта (esprit — objet). Этот контакт, как подчеркивает Башляр, всегда и везде принципиально незавершен, открыт, изменчив. Но именно в силу этой своей открытости и лабильности он способен к совершенствованию, к исправлению. И именно с этой проблемой обеспечения прогрессирующего соответствия познания реальному объекту связано приближение как общая характеристика научного познания и исправление ошибок как ее конкретное осуществление.
Башляр, на наш взгляд, слишком оптимистичен в отношении математики. Для него арифметика — безоговорочный синоним точного познания [48, с. 176]. Кризиса в обосновании математики и, в частности, арифметики он как бы и не замечает. Но зато, на наш взгляд, его анализ математики как приближенного познания интересен с прогностической точки зрения. Башляр верно предсказывает большое будущее за аксиоматическим методом. “Может быть, — говорит он, — в этом направлении (т.е. в направлении аксиоматизации — вст. наша — В.В.) пойдет математическое развитие, которое будет самым плодотворным в будущем” [48, с. 183].
Математика — несомненно благодатная сфера для анализа приближенного познания. Действительно, еще в древности иррациональные числа аппроксимировались рациональными, и это была одна из исторически первых процедур приближенного познания. Метод исчерпывания Архимеда — также по сути дела аппроксиматический подход. Впоследствии методы приближенного решения задач усовершенствовались. Они были подхвачены развивающейся математической физикой, всем математическим естествознанием, включая и астрономию с ее приближениями в расчетах астрономических величин, и механику, и химию и другие науки. Как справедливо пишет Морис Клайн, “естественнонаучные проблемы редко удается решить окончательно раз и навсегда. Обычно ученые получают все лучшее приближение, но отнюдь не полное решение задачи” [24, с. 328]. Кстати, если сравнивать математическое естествознание и чистую математику, то последняя содержит скорее возможность точного, а не приближенного решения задач. Правда, и здесь в силу неискоренимой неопределенности в основаниях точность оказывается все–таки относительной. Зато в прикладной математике действительно приближенные методы решений находят свое полное развитие. Мы можем теперь сказать, что теория приближенного познания позволила лучше понять реальную работу ученых. Так, по свидетельству математиков, выступающих под псевдонимом Бурбаки, “вот уже двадцать пять веков математики имеют обыкновение исправлять свои ошибки и видеть в этом обогащение, а не обеднение своей науки, это дает им право смотреть в будущее спокойно” [5, с. 30].
4. Аппроксимализм Башляра и конвенциализм
Дюгема
Понимание приближенного характера познания было распространенным в начале нашего века. Его разделяли великие ученые и крупные методологи: Феликс Клейн, Анри Пуанкаре, Пьер Дюгем. В частности, Клейн писал, что “в основных исследованиях в области математики не может быть окончательного завершения, а вместе с тем и окончательно установленного первого начала” [25, с. 21–22]. Пуанкаре в другой связи говорил о том, что в науке не существует окончательно решенных проблем, а только проблемы, которые решены относительно. Но если у ученых начала века не было развитой рефлексии этой особенности научного познания, то этого нельзя сказать о Дюгеме, который был и физиком, и методологом, и крупным историком науки. Именно его взгляды на проблему приближенного познания оказали наибольшее влияние на концепцию аппроксимализма Башляра. Однако между концепциями Дюгема и Башляра существует принципиальное расхождение. По Дюгему, язык науки символичен. Отсюда Дюгем заключает, что он не истинен и не ложен, а только приблизителен [16, с. 201]. По Башляру же, приближение — способ достижения истины в познании, условие объективности знания. Конвенциализм как философская позиция не приемлется Башляром. Однако положения Дюгема о теории как способе описания экспериментальных данных, о роли приближения в таком описании, о том, что все физические теории носят временный характер, повлияли на эпистемологические взгляды Башляра. Эпистемология приближенного познания Башляра отличается от конвенциалистской теории науки Дюгема и тем, что, по Дюгему, научные конструкции в принципе не доступны верификации. По Башляру же, верификация — норма функционирования знания.
В связи с нашим замечанием о связи Башляра с Дюгемом — связи в высшей степени насыщенной внутренним отталкиванием при сохранении определенного сходства — мы должны сказать о ней более подробно. В текстах самого Башляра прямая полемика с представителями конвенциализма почти отсутствует. Кстати, в том эпистемологическом трактате, который мы анализируем, мы не нашли упоминания о Дюгеме. Башляр использует труды Рея, Бутру, Мейерсона (кстати, здесь еще без полемики, которая, однако, с годами превратится в суровую критику), Брюнсвика, Кутюра, Энриквеса, Геффдинга, Бергсона и др., но не упоминает ни Пуанкаре, ни Дюгема. Прямую полемику с Пуанкаре мы находим, пожалуй, только в Философии “не” (1940 г.) [56]. То, что здесь говорит Башляр по отношению ко взглядам Пуанкаре, прямо относится и к его отношению к позиции Дюгема. “Для Пуанкаре, — говорит Башляр, — объяснения суть выражения... Каждый может выбрать то механическое объяснение, которое кажется ему более удобным. Вот один из корней того “коммодизма” (от commode — удобный — вст. наша — В.В.) или, лучше сказать, того скептицизма по отношению к теориям, который был таким модным среди философов” [56, с. 141]. Под упомянутыми здесь философами мы должны подразумевать позитивистов начала века, в том числе и конвенциалиста Дюгема. Этому подходу Башляр противопоставляет другой подход, согласно которому теория рассматривается не как наложение символического нейтрального языка на явления, а как “соударение", соизмерение между самими теоретическими описаниями, корректируемое поиском истины, в том числе и эмпирической верификацией. “Приближение” в конвенциалистской философии науки (Дюгем) превращено в своего рода “холостой ход” познания и только номинально называется “приближением”: фактически же никакого приближения к объекту познания в самом познании, по Дюгему, не происходит. Поэтому следует подчеркнуть радикальность переосмысления Башляром тех идей о приближенном характере познания, которые развивались конвенциалистами. Для Башляра каждый “мир” с фиксированным порядком физической величины представляет собой вполне конкретное продвижение к объективности знания. Это продвижение рассматривается в его позитивных познавательных возможностях, в то время как у Дюгема познавательные системы стоят под знаком скепсиса и агностицизма, преодолеть которые Башляр стремится вполне сознательно. Надо, кроме того, учесть и то, что конвенциалистская философия науки довольно быстро сошла со сцены еще и потому, что успехи атомной физики и создание квантовой теории требовали других эпистемологий*.
5. Историографические следствия
аппроксимализма
Теория приближенного познания органически переходит во вполне определенную концепцию исторического развития науки. Основные постулаты аппроксимализма фактически непосредственно накладываются на историю. Во–первых, основой понимания истории науки служит требование измеримости как главное требование, налагаемое на научную теорию с целью обеспечения ее объективности. “Проблема измерения, — говорит Башляр, — неким образом лежит в глубине всего процесса развития науки” [48, c. 69]. Теория науки и теория развития науки практически совпадают в концепции приближенного познания. И в соответствии с тезисом о ведущей роли измерения выстраивается все построение истории науки. История науки оказывается артикулированной на истории измерительной техники. “Точности измерений, — говорит Башляр, — достаточно для характеристики научных методов данной эпохи” [там же, с. 69]. Уровни точности измерений задают как раз те самые миры “порядков величин”, о которых мы уже говорили. Это “миры” со своими “фракционными” онтологиями и эпистемологиями. Переход в новый “мир”, в новый порядок величины представляет достаточно резкий скачок. И здесь кроется возможность для оформления представлений о разрывном характере движения научного знания. Однако в данном трактате Башляр еще не приходит к своей концепции разрывов (les ruptures). Она у него только еще складывается, и мы видим его колебания, например, в таком вопросе, как признание наличия или отсутствия разрыва между обыденным познанием и познанием научным. Впоследствии Башляр безапелляционно примет ту точку зрения, согласно которой между обыденным познанием, познанием “до–научным” и “пред–научным”, с одной стороны, и познанием научным, с другой, нет непрерывного перехода, что между ними решительный разрыв. Это означает, что от средств и методов обыденного познания, от здравого смысла и естественного языка нет эволюционного перехода к методам и к языку науки. Но эта позиция у Башляра будет складываться постепенно. В данной работе мы видим, что он отрицает наличие резкого разрыва между мирами обыденного опыта и опыта научного. “Описание, — говорит философ, — предстает как предварительное определение, фиксирующее объект изучения и выявляющее постепенный переход от обыденного познания (la connaissance vulgaire) к научному” [48, с. 50, курсив наш — В.В.].
Но это только одна сторона проводимых здесь анализов. Характеризуя микромир, Башляр подчеркивает (на это мы уже обращали внимание), что между миром микрофеноменов и миром явлений обычного опыта, описываемого и научно (в классической механике, например) и обыденно (естественным языком в повседневной практике), существует достаточно серьезный разрыв, касающийся самих логик мышления в обоих “мирах”. Здесь, однако, может возникнуть недоразумение. Можно подумать, что здесь смешиваются две вещи: научное описание “обычного мира”, мира предметов, доступных естественным органам человека, и описание этого же мира в здравом смысле, в простом обыденном сознании. И в соответствии с этим различением может показаться, что Башляр утверждает разрыв только между двумя науками: между наукой об этом мире (классическая механика) и наукой о микромире (атомная физика и теория квантов), но не между обыденным сознанием и сознанием (соответственно, познанием) научным. Но между классической механикой и здравым смыслом, по Башляру, нет разрыва: “Механицизм — говорит он, — это теория здравого смысла (sens commun)” [48, с. 57]. Итак, Башляр по сути дела признает только один фундаментальный разрыв: на одном полюсе стоит новая физика (атомная), а на другом вся классическая наука вместе с обыденным сознанием и здравым смыслом.
Впоследствии Башляр изменит свою позицию, и все научное познание, включая и механику классической эпохи, будет рассматривать как радикально порывающее с миром обыденного познания. Позиция, выраженная в данном трактате, обусловлена концепцией “порядков величины” или уровней. Мир классической механики и мир здравого смысла, как здесь считает Башляр, это мир одного порядка величины. “Эта теория, — говорит он, — строится на уровне или в масштабах обыденного опыта” [48, с. 57]. Таким образом, все “разрывы”, о которых говорится в анализируемой нами концепции, это разрывы, обусловленные исключительно скачками в порядках величин, определяющих соответствующие сферы опыта и описания.
Какая же именно концепция дискретности научного развития разрабатывается здесь Башляром? Эту концепцию он сам метко называет “экспериментальной дисконтинуальностью” (discontinu exprimental). Подводя итог своему историческому анализу прогресса в усовершенствовании измерительной техники и ее роли в науке, Башляр говорит: “Приходят, таким образом, к своего рода экспериментальной дисконтинуальности, возникающей из–за использования инструментов различной точности и различных методик” [48, с. 61]. Впоследствии Башляр разовьет представления не об экспериментальной, а о теоретической дисконтинуальности, не отбросив при этом, однако, и своих прежних представлений. Но именно теоретические концептуальные моменты выступят у него на передний план, соединившись с экспериментальным планом, который получит название “феноменотехники”.
Надо заметить, что когда писалась эта работа, квантовая теория еще не получила своего теоретического завершения, и Башляр обращается поэтому к истории атомной физики с ее экспериментальными достижениями. Но впоследствии и квантовая теория и теория относительности войдут в поле зрения эпистемолога. И это также внесет свой вклад в указанное смещение позиции от “экспериментальной дисконтинуальности” 1927 г. к теоретической “разрывности” последующих лет.
Теория и экспериментальная техника, по Башляру, по–разному ведут себя в реальной истории. Теориям присуща инерция, они несут с собой возможности преемственности, континуальности. Экспериментальные же методы и, прежде всего, измерительная техника, напротив, представляют революционный элемент в структуре науки, обуславливая разрывный, дисконтинуальный характер развития знаний. “Теории, — говорит Башляр, — могут возрождаться после своего забвения (une éclipse) в течение многих веков. Напротив, завоевание большей точности бесповоротно выбраковывает экспериментальные знания эпохи. История приближенного познания так относится к истории научных систем, как история народов относится к истории королей” [48, с. 69]. В этих словах содержится основа для той историографической программы, которая отвечает концепции приближенного познания. Переориентация истории с истории великих систем мысли, с истории знаменитых создателей выдающихся теорий на историю незаметных технических методик и процедур измерения, на историю массовидную, определяющую необратимые изменения в науке, будет вдохновлять вслед за Башляром и других эпистемологов и историков, обновивших рефлексию науки в современной Франции. Мы имеем в виду такие фигуры, как Ж.Кангилем и особенно М.Фуко, для которого этот переход от истории “королей” к истории “народов” является и его собственной историографической программой, хотя он истолковывает его уже, конечно, по–иному, чем Башляр [84].
Отметим еще один момент в формировании концепции “разрывов” в эпистемологии Башляра. К этой концепции Башляр подходит через критику прагматистской эпистемологии Уильяма Джеймса, выдвинувшего тезис об “эпистемологической непрерывности”. Джеймс говорит о “соединенных опытах”, в которых переход от одних представлений к другим совершается вполне непрерывно. Башляр проверяет эти положения, обращаясь к истории представлений о природе света, в частности, к опытам Френеля, установившего связь между цветовой характеристикой и длиной волны колебательного процесса (волновая теория света). И при ближайшем анализе он обнаруживает, что и в этом случае тезис о полной эпистемологической непрерывности не проходит. Разрыв между восприятием цвета и восприятием механического колебания, ему соответствующего, остается непреодоленным. Сама связь цвета и колебания возможна только тогда, когда переходят к новой теории света — от качественной физики гетеанского толка к волновой теории Френеля. Между этими представлениями — разрыв. Башляр здесь приходит к интересным для истории науки выводам: “Наука, — говорит он, — не всегда отвечает на вопросы, оставленные без ответа учеными прошлой эпохи. Каждое время имеет свои проблемы, как и свои методы, свою собственную манеру подхода к неизвестному” [48, с. 270]. Концепции света Гете и Френеля — гетерогенны. И вопросы, поставленные Гете, были оставлены, вся проблема была смещена и перенесена в совершенно новую плоскость. “Таким образом, — заключает свой исторический экскурс Башляр, — даже в истории эволюции частной проблемы нельзя скрыть подлинные разрывы, внезапные мутации, которые опрокидывают тезис об эпистемологической непрерывности” [там же, с. 270]. Разрыв полагает начало новой эпистемологической непрерывности в рамках новой исследовательской программы.
Помимо разработки идеи разрыва в научном развитии Башляр набрасывает здесь и контуры другого важного для него понятия, понятия эпистемологического препятствия. Пока это не более, чем наброски и отдельные замечания по поводу того, что впоследствии превратится в целую теорию. Как и идея разрыва, идея препятствия развивается в связи с анализом приближенного познания. “Враг ученого в области второго приближения, — говорит Башляр, — это научные привычки, которые у него сложились при изучении первого приближения” [48, с. 70]. Здесь нельзя не обратить внимания на сферу, в которой фиксируется препятствие: это психологическая сфера, точнее, психика ученого, его ментальный склад. Именно в этой “зоне” Башляр впоследствии будет искать источник препятствий, развивая представления о путях их преодоления.
Второй момент, на который мы бы хотели обратить внимание, анализируя истоки концепции препятствия, касается отношения к проблеме препятствия, с одной стороны, разума, и чувственного познания, с другой. Препятствие у Башляра мыслится имманентным познанию. Внутри самих познавательных механизмов формируются и проявляются препятствия на пути осуществления гносеологической функции. Эта установка остается неизменной для всего творчества Башляра. Кандидатом на источник препятствия оказывается здесь у него интуиция. Анализируя роль интуиции в математике, Башляр говорит: “Ясность интуиции не простирается за пределы родственной ей сферы. Только здесь, вблизи от своего собственного центра, она служит надежным гидом. Но идя дальше, она путается в аналогиях, так что может даже стать препятствием для точного познания. Интуитивное познание упорно, но неподвижно. И в конце концов оно блокирует свободу ума” [48, с. 170]. Башляр учитывает здесь опыт создания не–евклидовых геометрий, в частности, римановых, и подчеркивает, что для создания новых, более точных и более мощных понятий, надо оставить ту привычную сферу опыта с присущей ей интуицией, в которой эти понятия возникли, с тем, чтобы перейти к новой сфере, более абстрактной, удаленной от сферы их первоначального возникновения и оформления. На пути такого развития знания интуиция может быть препятствием. Тема “тормозящей” роли созерцания и воображения будет развиваться Башляром в его последующих трудах. Именно воображение с его склонностью к образной фиксации понятий будет представляться ему основным источником препятствий как в преподавании, так и в самой науке.
6. Концепция приближенного познания:
значение и пределы
Подведем итоги нашему анализу концепции приближенного познания Башляра. Своевременность этой концепции в условиях революционного развития науки в первой трети XX в. очевидна. Выдвигая эту концепцию, Башляр решительно не приемлет традиционного спиритуализма, господствовавшего тогда во французских университетах. Он противник и идеалистического априоризма, и эмпиризма позитивистского толка, и прагматизма. В частности, что касается последнего, он говорит о поражении его “перед лицом бесконечно малого” [48, с. 279], имея в виду невозможность — кстати, весьма проблематичную в свете науки и техники сегодняшнего и завтрашнего дня — воздействовать на микромир. В таком словоупотреблении “прагматизм” для него — синоним практической активности и ее философской теоретизации. Стремясь преодолеть распространенные идеалистические философии своей эпохи, Башляр упирается в необходимость концептуализации практики, общества, культуры. Так, например, в проанализированном нами трактате он, критикуя априоризм, выдвигает требование изучать научное познание “в момент его применения, или, по крайней мере, никогда не терять из виду условий его применимости” [48, с. 261]. А это фактически означает требование брать познание как практику, как конкретную историческую деятельность со всеми неизбежно следующими отсюда импликациями. Но это обращение к понятию практики остается нереализованным. Понятия практики, идеологии и другие аналогичные понятия социокультурного анализа остались за пределами как концепции приближенного познания, так и эпистемологии Башляра в целом, хотя определенный шаг к их оформлению мы у него и находим.
Башляру удалось ввести философскую рефлексию знания в специализированные сферы современной науки. Он сам глубоко проникся духом научной работы в ее лабораторных буднях, хотя и был преподавателем, а не работающим исследователем*. “Если жить в лабораториях, — говорит Башляр, — то видно, что там не довольствуются одной единой универсальной онтологией. Бытие представляется здесь как своего рода концентрические оболочки, которые опыт раскрывает одну за другой” [48, с. 76]. Под универсальной онтологией Башляр имеет в виду различные скороспелые философские обобщения, которые, как показал опыт научных революций, не выдерживают испытаний кризисами знания. И чтобы создать новую современную философию и историю науки надо, по мысли Башляра, суметь усвоить многообразный опыт специальной научной деятельности, которая требует не одной онтологии, а многих (его концепция уровней). От требования “полионтологичности” и “полиэпистемологичности” Башляр перейдет затем к “полифилософизму”, к требованию “полифонии” подходов на уровне философии, необходимой для понимания научного развития. В этих идеях есть немалый критический заряд, но они оказываются, тем не менее, недостаточно конструктивными.
Прежде всего, на наш взгляд, сказалась ограниченность психологического подхода к решению этой задачи. Уже в работе о приближенном познании мы обнаруживаем, что то “поле” мысли, в рамках которого ведет свое рассуждение Башляр, есть “поле” своеобразного гносеологического психологизма. Обратимся к материалу работы. Ни метафизический спиритуализм, ни критическая философия неокантианского толка не удовлетворяют Башляра как возможные образцы задания горизонта рефлексии современной науки. Такой горизонт он находит в психологии. Конечно, это философская психология, в ее центре стоят проблемы познавательной активности, научного творчества. Но тот субъект, о котором рассуждает Башляр, это психологический субъект, т.е. индивид, наделенный умом и эмоциями, воображением, аффектами и привычками. Движущая сила научного развития (как, впрочем, и тормозящая) коренится именно в этой сфере. Познание, как считает Башляр, питается любопытством индивида, проявляющимся во внимании к деталям исследуемого предмета: “Удовольствие любопытства, — говорит Башляр, — это — минимум аффективности, необходимый для того, чтобы дать импульс нервной энергии познания” [48, с. 247, курсив наш. — В.В.]. Психология, выступающая скрытой предпосылкой его построений, это психология познающего разума, активного, изобретательного, полного динамизма. Познание, по Башляру, есть освоение данностей в теории с помощью разума. Но сам разум с его динамикой есть для него лишь психологическая данность, так как никакой “генеалогии” разума, вытекающей из анализа общественной практики, истории и культуры у Башляра нет. Потребность в научном творчестве для него тоже только психологическая “духовная потребность”. Он подчеркивает, что эта потребность “несомненно не менее существенная духовная потребность, чем потребность в усвоении (наличного)” [48, с. 247, вст. наша — В.В.]. Вырваться за “порядок величины” мира психологического индивида Башляр не может. И это несмотря на то, что в план его анализа попадает и техника, и история измерительных инструментов, и другие моменты, относящиеся к сверхиндивидуальным и сверхпсихологическим “реалиям”, значимым для понимания науки.
Глава вторая
Историческая эпистемология как
эпистемология разрывов
1. Тема разрывов в творчестве Башляра
в 30–е годы
В 30–е годы Башляр продолжает развивать идеи, выдвинутые им в концепции приближенного познания. Представления об исправлении ошибки как механизме прогресса знаний сохраняются и развиваются Башляром на протяжении всего его творчества вплоть до работ 50–х годов. Однако 30–е годы принесли и немало нового в эпистемологический “багаж” философа. Прежде всего это новое было связано с осмыслением возникшей в те годы квантовой механики в разных ее вариантах, включая волновую механику Луи де Бройля, матричную механику Гейзенберга, уравнение Шредингера, соотношение неопределенностей и принцип дополнительности Бора. Весь этот комплекс новых физических идей был пережит и осознан Башляром как глубокая революция в науке, далеко превосходящая все другие изменения по своей радикальности, по вызванным ею переменам в основах научного мышления и по тому вызову, который был брошен ею философии да и всей интеллектуальной и культурной жизни человечества. Теория относительности отступает при этом в глазах Башляра на второй план как гораздо менее глубокая революция в мышлении*. Конечно, революционный характер теории относительности признается французским эпистемологом, и она продолжает фигурировать в его анализах, но таковой она выглядит исключительно на фоне механики Ньютона. Внутреннее богатство релятивистской теории, подчеркивает Башляр, обнаружило бедность и условность классической механики. Но точно так же, продолжает он свое рассуждение, волновая механика Луи де Бройля “дополняет (complete) классическую и даже релятивистскую механику” [52, с. 142]. С современной точки зрения это, по меньшей мере, сомнительно, если не неверно, но нам важны эти сравнения как оценки эпистемолога, работавшего в 30–е годы и пытавшегося извлечь следствия для логики мышления вообще и для теории науки, в частности, из революционных преобразований физики, которые тогда происходили.
Итак, “революция Гейзенберга” [52, с. 122] попадает в самый фокус размышлений Башляра о современной науке и ее истории. И осознание этой революции обостряет интерес философа к представлению о разрывах в развитии знаний и о препятствиях, встающих на его пути.
Редонди объясняет приверженность Башляра к теме эпистемологического разрыва его зависимостью от Брюнсвика с его философией строгого математического разума, находящегося в конфликтном напряжении с опытом, с чувственностью [113, с. 190]. Нам это замечание представляется справедливым, но недостаточным. Тема разрыва слишком глубоко пронизывает творчество Башляра, чтобы объясняться простым влиянием на него одного из философов. Нельзя не видеть, что понятие разрыва вырастает из собственных исследований Башляром истории науки, из его анализа современной ему научной революции, из его концепции системности знания, из его антиэмпиристской эпистемологии.
Идея о разрывном характере прогресса научных знаний, как мы уже это показали, возникает у Башляра в рамках его концепции приближенного познания. Однако в представлениях о приближенном познании слишком был велик элемент непрерывности, в контексте этих представлений вполне понятный и легко объяснимый теми процедурами приближений, которые проводятся в математике и физике. Разрывы выступали здесь прежде всего как границы между “мирами” объектов разных “порядков величин”. Теперь же ситуация изменилась в том плане, что теория приближенного познания дополнилась осознанием фундаментального эпистемологического разрыва, зафиксированного “революцией Гейзенберга”. В результате понятия разрыва и эпистемологического препятствия выступили на передний план, причем не в качестве каких–то готовых схем или представлений, но как такие образования, которые скорее ставят саму проблему их разработки, т.е. как понятия–проблемы. И, действительно, после выхода в свет своей книги “Новый научный дух” (1934 г.), в которой Башляр попытался очертить основные сдвиги в мышлении, вызванные этой революцией и другими глубокими изменениями в науке (идеи Римана* и Лобачевского, теория относительности, атомная физика и, наконец, квантовая механика), философ строит развернутую концепцию эпистемологических препятствий [55].
Представление о разрыве как основной характеристике движения познающего разума естественным образом возникает в эпистемологической “оптике” Башляра, формулирующего задачу “схватить современную научную мысль в ее диалектике и показать ее существенную новизну” [52, с. 14, курсив наш — В.В.]. Характерно, что основным оперативным понятием у Башляра, начиная именно с 30–х годов, становится понятие диалектики или даже “диалектик” (множественное число). Вместе с “диалектикой” таким же по статусу понятием становится и понятие “открытости” рационализма как адекватной современной науке его важнейшей характеристики. Оба эти понятия — диалектика и открытость — соотносятся друг с другом, взаимно друг друга предполагая, так что “диалектический разум” не может быть замкнутым и наоборот.
"Открытое” и “диалектическое” состояние разума Башляр устанавливает, анализируя создание не–евклидовых геометрий Лобачевским и Риманом. Первое — исторически — “размыкание” разума произошло, таким образом, еще в середине XIX века. Разум, считает Башляр, перешел в новое состояние, характеризующееся прежде всего новым отношением между опытом и математикой, новым пониманием самой математики и ее онтологических возможностей. Это означает, что аксиоматический фундамент математики пришел в диалектическое движение, стал источником новых рациональных конструкций, полностью порывающих, как считает философ, с миром обыденного опыта и классических евклидовых представлений. “Мы должны выявить, — говорит Башляр, — диалектическую игру, которая основала не–евклидовость, ту игру, которая приходит к тому, чтобы сделать рационализм открытым и отстранить психологию замкнутого, базирующегося на неподвижных аксиомах разума” [52, с. 19]. Из всех философско–математических концепций, возникших в первой трети XX в. в связи с кризисом оснований математики и появлением новых разделов математики и логики, Башляру, несомненно, ближе всего конструктивизм, идеи которого он использует в своей концепции “открытого рационализма” “прикладного рационализма”, наконец, “рационального материализма” (50–е годы)*.
Прежде всего подчеркнем связь размышлений эпистемолога над физической ситуацией в микромире с анализом новой роли математики и ее статуса в связи с открытием не–евклидовых геометрий, возникновением новых разделов математики главным образом в конце XIX и в начале XX вв. и их применением в физических науках. Мы уже говорили, что анализ микрофизики был базой для новой эпистемологии. Теперь же, в связи с созданием квантовой механики и развитием атомной физики, в центр осмысления науки попала математика и ее роль в физике XX в. Эта связь новой математики с новой физикой зафиксирована для Башляра уже в том простом обстоятельстве, что элементарный объект микрофизики не подчиняется группе Евклида [3, с. 51], а подчиняется новой группе — Лоренца. Это означает, что имеется глубокая связь между не–евклидовыми геометриями и физикой микромира (добавим: и физикой и космологией макромира, имея в виду общую теорию относительности). Отметим, что математическое понятие группы, как проницательно замечает Башляр, получает при этом особую значимость для физики. “Математическая физика, инкорпорируя в свой фундамент понятие группы, — говорит Башляр, — обнаруживает свое рациональное превосходство (suprématie)” [52, с. 34]. Теория групп и их инвариантов дает, по Башляру, чисто рациональный смысл физическому знанию, резко отличающий его от субстанциалистской и “реалистической”** интерпретаций классической физики. Это противопоставление группового подхода новой физики процедурам классической физики Башляр использует для критики философии науки Э.Мейерсона. Башляр признает заслугу Мейерсона в обнаружении в науке структур тождества, но он не согласен с их интерпретацией. Именно групповой подход и принцип инвариантности дает, по его мнению, рациональную трактовку тождествам Мейерсона, которые он сам истолковывал субстанциалистски и “реалистически”, т.е. на языке старой аристотелевской логики субстанции и атрибута, где примат целиком и полностью сохранялся за категорией субстанции в ущерб категориям атрибута (свойства) и отношения.
Этот анализ приводит Башляра к своего рода таблице противоположностей. В один ряд он выстраивает такие понятия: микро–объект — не–евклидовы геометрии — отношение — абстракция — открытый рационализм. В другой ряд, соответственно: макро–объект — евклидова геометрия — сущность (вещь) — конкретное и непосредственное — замкнутый рационализм (вместе со здравым смыслом и обыденным сознанием). По сути дела именно здесь, между этими двумя рядами проходит водораздел мысли, ее разрыв. На протяжении всей своей творческой жизни Башляр неутомимо будет и доказывать, и декларировать, и проповедовать радикальный эпистемологический разрыв между этими несовместимыми, как он считает, мирами. Этот разрыв, как мы видим, многогранен и может принимать различные формы, как бы проецируясь в плоскость разных категорий. Так, в основе его работы об образовании научного духа [55] будет лежать предположение о разрыве между обыденным сознанием (в его многочисленных проявлениях и философских оправданиях) и объективным научным познанием.
2. Научная революция XX века и новая
онтология науки
Башляр стремится дополнить революции в науке эпистемологической революцией. И надо сразу же отметить, что преобразование эпистемологии подготавливал, конечно, далеко не один Башляр, хотя иногда он сам своим пафосом новатора и реформатора вызывал или стремился вызвать впечатление, что он одинок в своей исторической миссии. Кстати, в своих работах 30–40 гг. Башляр называет различных авторов, работами которых он пользовался и которые или сами работали в близком ему направлении или в чем–то помогли созданию его эпистемологической концепции (Дюпреель, Детуш, Гонсет и др.). В 50–е же годы эти упоминания становятся более редкими, тон Башляра становится более учительским [60]. В книге “Новый научный дух” [52] Башляр указывает, в частности, на работу Фердинанда Гонсета “Основания математики” (1926 г.) [93], которая оказала на него, несомненно, сильное влияние. Впоследствии Башляр вместе с Гонсетом и П.Берне основывает журнал по эпистемологии (“Диалектика”, Лозанна, 1947 г.). Башляр был близок к развиваемому Гонсетом “идеонизму” (т.е. учению о пригодности понятий как познавательных средств) [3, с. 199]. В первом номере этого журнала была опубликована программная статья Башляра “Диалогизированная философия”, вошедшая затем в качестве главы в его книгу “Прикладной рационализм” [58, с. 1–11]. В основе направления, которое развивалось в этом журнале группировавшимися вокруг него учеными и философами*, лежала концепция “открытого рационализма”. Суть ее хорошо выразил Гонсет: “Это философия, провозглашающая идею, что внешний или внутренний опыт привносит или может привнести столь глубокий урок, что сами принципы, на которых строится философия, в силу этого могут быть затронуты, став проблематичными” [119, с. 30].
Гонсет показал, что “экспериментирование находится под воздействием некой предварительной мыслительной конструкции”, являющейся математической структурой [3, с. 56]. Иными словами, любой эксперимент в науке непременно “нагружен” теоретикорациональной компонентой, которая его предопределяет, ставя сразу же в определенные рамки. Этот последовательно и доказательно проведенный антииндуктивизм был близок Башляру и несомненно повлиял на его понимание особой, опережающей роли абстракции в новой науке, послужив, как говорит сам философ, основой того, что “доказательство связной целостности (cohérence) конкретного ищут в сфере абстракции” [52, с. 40]. Абстракция становится, тем самым, ключом к рациональному овладению непосредственностью эмпирии, источником продуктивных синтезов, позволяющих создавать новую рациональную технореальность, ни в чем не похожую на мир обыденного опыта. И поэтому неслучайно, что в этой же книге (Новый научный дух, 1934 г.) мы впервые в творчестве Башляра встречаемся с понятием феноменотехники [52, с. 13].
Что же это такое? “Подлинная научная феноменология, — говорит Башляр, понимая под феноменологией не философское учение о феномене, а саму сферу “наукоемких” явлений или, как принято говорить в физике, эффектов — существенным образом есть феноменотехника... После того как в первых усилиях научного духа сформировался разум по образу мира, духовная активность современной науки начинает созидать мир по образу разума” [там же, с. 13]. С понятием феноменотехники связан, по Башляру, главный вектор научно–технического развития в XX веке — от рациональности к реальности. Тезис Башляра о наличии такого вектора полемически заострен против индуктивизма и кумулятивизма как базы для трактовки истории науки и прогресса разума в целом. Если у индуктивистов разум рассматривался как средство обобщенного описания наличной “естественной” реальности, то у рационалиста нового толка, считает Башляр, разум, будучи сформирован по “образу мира”, теперь сам строит свой мир, ничем не похожий на тот “естественный” мир, из которого он некогда вышел, а теперь решительно с ним порвал. Место индуктивного обобщения индуктивистов у Башляра занимает абстрактная рациональная конструкция, не имеющая непосредственных аналогов в мире природы, но раскрывающая ее глубже и масштабнее, поскольку теперь она уже не мыслится независимой от активности самого научного разума. Последний момент важен для осознания новых онтологических импликаций, следующих из анализа ситуации в квантовой механике. Действительно, “революция Гейзенберга” состоит в установлении “объективного индетерминизма” [52, с. 122], т.е., иначе говоря, того факта, что “имеется существенная интерференция метода (т.е. субъекта — вст. наша — В.В.) и объекта” [там же]. Совершенно бессубъектная, “вещевистская” (chosiste) онтология теперь, после создания квантовой механики, обнаружила свою несостоятельность.
Ситуация, возникшая в квантовой механике при определении микрообъектов, резюмируется Башляром в такой формуле: “Следовательно, опыт входит в состав определения Бытия” [52, с. 45]. Этот вывод можно истолковать и так, что традиционная априористская онтология должна уступить место новой, так сказать, апостериорной и экспериментальной онтологии, причем вместо одной онтологии их возникает целое множество (вспомним “фракционные онтологии” концепции приближенного познания). Евклидова геометрия давала геометрические определения для единственной онтологии априорного типа, которая проникла, как не без оснований считает Башляр, глубоко в подсознание и стала тормозом или “препятствием” для научного прогресса.
Известно, что еще Гаусс предлагал опытную астрономическую проверку эвклидовости космического пространства. Но даже Пуанкаре не мог принять решающий характер соответствующего измерения (речь идет об измерении площади треугольника, построенного на базе взаимно–удаленных астрономических объектов). Если бы даже этот опыт был положительным и показал бы уменьшение площади треугольника в сравнении с той, которая следует из теорем евклидовой геометрии, то все равно эту аномалию нужно было бы списать на счет физики, а не геометрии, и геометрия Евклида сохранила бы свою незыблимость в качестве абсолютной. Так рассуждал Пуанкаре. Что говорить о других ученых и тем более просто образованных людях, которые свыклись с евклидовой геометрией как с “естественной” и заведомо нерушимой? Здесь, говорит Башляр, нет другого пути расчистки поля для новой науки, как психоанализ. И он как бы играет фрейдовским словарем, говоря, что математик вытесняет интуицию и сублимирует опыт [52, с. 32]. Применение методов психоанализа для “излечения” научного духа от “препятствий” уже маячит перед Башляром в спектре его творческих замыслов. Конечно, этот психоанализ будет далеко не классически фрейдистским, считает философ. Но пока (начало 30–х годов) Башляр явно увлечен психоанализом и еще не наступила пора для его отрезвления и известного разочарования.
Итак, в глазах Башляра психология обосновывает онтологический априоризм и именно она кажется ему эффективным средством для преодоления препятствий на пути полного развития “нового научного духа”. Однако оставим пока психологию в стороне и продолжим рассмотрение тезисов “новой онтологии”, которые намечаются Башляром в свете его анализа квантовой механики и других революционных теорий в науке. В связи с намеченной темой “феноменотехники” обратим внимание на то, что если традиционные онтологии говорили о мире вообще, о бытии, о существовании как таковом и т.п., то Башляр заменяет термины “мир", “реальность” и др. терминами “научный мир”, “научная реальность” и т.п. Таким образом, он хочет четко зафиксировать то обстоятельство, что все онтологические конструкции сегодня имеют смысл только в том случае, если они строятся на научных данных, на анализе онтологической ситуации в науке. Наука у Башляра становится по сути дела единственным источником философии и центром сознания современного человека*.
Но Башляр в своем устремлении войти в средоточие современной науки идет еще дальше. Он уже не говорит о “реальности науки” вообще, апеллируя к “реальности лаборатории” [52, с. 16]. На базе этой реальности и раскрывается феноменотехнический проект. Категория проекта выдвигается здесь явно на передний план, раскрывая технологический рационалистический конструктивизм современной науки: “Сверх субъекта, по ту сторону непосредственного объекта современная наука базируется на проекте. В научном мышлении размышление субъекта об объекте всегда принимает форму проекта” [52, с. 11]. Нам эти мысли кажутся актуальными. Напомним только, что Башляр их высказал еще в начале 30–х годов*. Эксперимент, реализующий рациональность науки, проектируется, а поэтому стратегия научного поиска имеет немало точек соприкосновения с искусством инженера. И это сближение происходит потому, что мир науки и мир техники — в принципе один и тот же мир, искусственный рациомир или техномир, своего рода “ноосфера” (Башляр безусловно знал об этом понятии, вклад в который внесли Тейяр и Ле Руа) или мир “феноменотехники”, говоря языком Башляра.
Феноменотехника — реальность абстрактного разума, получившего конкретное осуществление. По Башляру, динамика взаимоотношений разума и мира характеризуется своего рода инверсией. Действительно, если сначала разум формируется под определяющим воздействием мира, то теперь, в современной науке, вобрав в себя как бы его сущность, он сам формирует свой мир уже по своей мерке.
Более конкретно этот виток взаимоотношений разума и мира раскрывается, как считает философ, в новом статусе математики. Истолкование математики как языка науки, который может совершенствоваться, но не может в принципе измениться настолько, чтобы его сущность как лингвистического средства была бы при этом задета, является, по Башляру, неверным. Нельзя в теоретической физике, считает философ, разделить физическое содержание и математическую форму. Математические формы, “работающие” в современной математической физике, это и есть содержание физической реальности. Само физическое мышление протекает в математических формах, так что они сами по себе глубоко содержательны. И в пояснение своей мысли Башляр цитирует Ланжевена: “Тензорное исчисление лучше знает физику, чем сам физик” [52, с. 54].
Концепция разрыва, как мы видим, глубоко внедрена в мышление Башляра. Разрыв в онтологических “слоях” бытия (первая или “непосредственная” природа, с одной стороны, и вторая, искусственная природа новой науки и техники, с другой) корреляционно связан с разрывом в человеческом субъекте. Это уже отмеченный нами разрыв между разумом (рациональной способностью) и воображением или способностью к образам, грезе, мечте, фикции. Сама напряженность, профетическая окраска стиля Башляра вытекают из этой двойственности, а заключенная в них энергия служит средством поддержания и удержания этой фундаментальной расколотости мира и человека. И если судить об этой двойственности в теоретическом плане, то она больше ставит вопросов, чем их решает.
Действительно, единство мира и человека встает при этом как самая острая проблема для теоретического постижения, так как на полуинтуитивном уровне мы вполне отдаем себе отчет в том, что природа едина и человек един как в своем художественном (имажинативном) измерении, так и в своем научно–рациональном творчестве. Мы понимаем, что потенции творчества в науке и в искусстве имеют общий исток несмотря на то, что различие этих видов творческой деятельности несомненно. Но позиция, занятая Башляром, считающим, что в науке воображение выступает только как препятствие, только негативно, на наш взгляд, “не проходит”, не выдерживая проверки материалом из истории научного творчества.
Не “лунатиками”, с другой стороны, являются и люди искусства, творцы художественных форм. Активное присутствие рациональной способности здесь также очевидно. Скорее всего философ в своей абстракции расчленил то, что в самом предмете выступает как единство. Это касается и двух природ в объективном плане, и двух способностей человека в плане субъективном. В этом искусственном дуализме, на наш взгляд, одна из основных “слабостей” башляровской философии.
Конечно, сам этот дуализм возник не случайно. Он вызван прежде всего стремлением отстоять рационализм, отвечающий новой науке. При этом мир традиционной науки и мир обыденного сознания сближаются. Этим мирам приписывается онтология неподвижности, адинамизма. Им противопоставляется новый мир новой науки. Место прежней онтологической статики занимает онтологическая динамика. Она проявляется в том, что в современной науке на передний план выдвигается категория возможности. “Возможное, — говорит Башляр, — гомогенно бытию” [52, с. 56], т.е. оно однородно, равнопорядково, равномощно с ним. В другом месте философ, однако, настаивает на примате возможности по отношению к бытию: “Реальность, — говорит он, — обнаруживается как частный случай возможного” [52, с. 58]. Мысль философа здесь явно колеблется. Несомненно для него одно — возможность и бытие вступают в современном научном мышлении в “новый альянс”, их связь становится иной, чем в структуре оснований классической науки и обыденного сознания. И значение возможности явно растет. Но вопрос о примате при этом не получает однозначного решения. И нам кажется потому, прежде всего, что сам этот вопрос носит аксиологический, установочный характер. Иными словами, было бы более продуктивным конкретно разбирать реальные ситуации познания и в их анализе раскрывать взаимосвязь этих ведущих категорий.
Аналогично обстоит дело и с категорией отношения в ее связи с категорией вещи или субстанции. Здесь мысль философа также “плывет”. С одной стороны, он говорит об уравнивании в статусах категорий отношения и вещи. Так, например, Башляр пишет, что “эпистемолог должен стоять на пересечении дорог между рационализмом и реализмом” [52, с. 10]. Реализм в устах Башляра означает именно субстанциализм, т.е. позицию, отстаивающую онтологический примат субстанции–вещи над отношением, а рационализм понимается, напротив, как выражение онтологии (и эпистемологии) “реляционизма” (этот термин сам Башляр, однако, не употребляет). Поскольку задачей философа является открытый или новый рационализм, а не реализм, выступающий как объект критики, то, как правило, мы сталкиваемся с высказываниями, подчеркивающими примат отношения над сущностью (субстанцией). Так, делая вывод из анализа неевклидовых геометрий, Башляр говорит, что “сущность сопутствует (contemporaine) отношению [52, с. 22]. Такого же рода вывод Башляр делает и из анализа физики излучения, подчеркивая, что в этой области “упорядоченного мира абстракций, обеспечивающего примат отношения над бытием” [52, с. 67], наука элиминирует само пространство–время с тем, чтобы достичь абстрактной структуры группы. Вообще, носителем отношений, проводником их господства в науке выступает, по Башляру, алгебра, которая, как он считает, вытесняет геометрию с ее интуицией и воображением. Именно алгебра служит связующим звеном между различными геометриями, и то содержание, которое в них содержится, компактно и без геометрического плюрализма записано в символике алгебры. Алгебраизация сопровождается ростом значения аксиоматики, которая работает по принципу “почему бы и нет”, пришедшему на смену старому философскому принципу “как если бы”. В этом новом принципе* по мысли философа проявляется “свобода” нового разомкнутого рационализма, его конструктивизм. Аксиоматика может строиться относительно свободно, хотя выбор аксиом должен проводиться с крайней осторожностью. Но важно, чтобы сама система, строящаяся на основе тщательно подобранных аксиом, не была бы противоречивой.
Башляр не проблематизирует категорию противоречия в формальных системах, и мы у него не находим глубокого интереса к проблемам логики. Видимо, его неприязнь к математической логике, к формальному анализу науки в духе логического позитивизма питалась его убежденностью в том, что научное творчество содержательно и что для его изучения нужен скорее контакт с лабораторией, с понятиями физики и химии, с исследованием преобразования их содержаний, а не постановка формально–логических проблем и развитие символических логик.
Для отталкивания от неопозитивизма у Башляра были серьезные теоретико–эпистемологические основания. Во–первых, он в своем антииндуктивизме и антиэмпиризме не мог принять гиперфактуализм неопозитивистов. Во–вторых, для неопозитивистской программы изучения науки был характерен тезис о принципиальном единстве знания, об унитарной науке. Для Башляра же с его концепцией приближенного познания, с его ориентацией на реальность лаборатории, на размыкание разума, на полифонию философских интерпретаций науки, на множественность познавательных средств и на поиск разрыва во всех этих образованиях не могло идти и речи о какой–то унитарной науке. Науки, онтологии, эпистемологии, философии для него множественны, “фракционны”, частичны. И, наконец, в–третьих, в целом позиция Башляра представляется несомненным шагом вперед, имея в виду историзацию эпистемологии. Недаром его эпистемология получила название исторической. Башляр действительно рассматривает науку как историческое образование, возникшее и преобразующееся в истории. Наука, таким образом, предстает как исторически изменчивый многокомпонентный профиль, поскольку историческому оформлению подчинено и дисциплинарное членение науки. Конечно, мы не можем отрицать определенной нормативности (доминирующей в позитивистской концепции) и в анализе науки у Башляра. Но сами нормы у него не были подобны физикалистским нормам неопозитивизма. Они выявлялись историческим анализом новой науки и выражали скорее результаты ее философского осмысления, некоторые императивы рефлексии науки, чем нормы обязательные для работающего ученого. Башляр, несомненно, способствовал развитию исторических исследований науки, которые сдерживались неопозитивистской программой.
Тезис о примате отношения над бытием как онтологический вывод из эпистемологического анализа новой науки охватывает целый комплекс идей, включающих и новые познавательные ориентации. Современная наука, как мы можем сказать, реконструируя ход мысли Башляра, динамизировала наше видение реальности. Представление об устойчивых вещах и сущностях дополнилось представлениями о вещах–движениях, о сущностях–становлениях. Такими объектами выступают прежде всего микрообъекты физики, например, атомы. Атом — столь же становление, сколь и бытие, столь же движение, сколь и вещь. “Это, — говорит философ, — элемент становления–бытия, схематизированный в пространстве–времени” [52, с. 68]. Аналогичный вывод об уравнивании в онтологическом статусе бытия и движения делается, исходя из анализа явления фотоэффекта, уравнение для закона сохранения энергии в котором было дано, как известно, Эйнштейном [52, с. 70]. Присоединим к этим выводам уже отмеченное нами возрастание роли категории возможного.
Эти сдвиги в онтологическом категориальном аппарате коррелируют с изменениями в способах мысли, в принципах освоения реальности. В частности, новый научный дух характеризуется, по Башляру, принципом “почему бы и нет”, возможностью “свободного” рационального конструирования, принципом математического моделирования и математической гипотезы. “Мыслить мы можем, — говорит философ, — только математически” [52, с. 132]. Это высказывание полемично заострено против всех тех интерпретаций науки, которые стремятся позитивно связать мир обыденного опыта, интуиции, наглядных представлений и мир современной науки. К таким ученым относится Э.Мейерсон, который с 30–х годов становится объектом постоянной критики со стороны Башляра, хотя некоторые пункты своего согласия с ним он и отмечал в своем “Исследовании приближенного познания” [48]. Башляр считает, что Мейерсон не учитывает такого мощного метода развития современной науки как метод математического конструирования в физике, рассматривая ее как сферу принципиально не отличающуюся от мира обыденного опыта.
Различие своего подхода и подхода Мейерсона Башляр демонстрирует на примере истолкования понятия спина. Фиксируется ли в спине электрона его реальное вращение или нет? — спрашивает философ. И намечает два возможных направления в истолковании понятия спина. Во–первых, следуя самому слову “спин” (spin) можно вслед за английскими физиками, например, Тиндалем, считать его наглядной характеристикой электрона, в основе которой лежит его реальное вращение. Во–вторых, рассуждает Башляр, можно следовать французской традиции*, дистанцирующейся от “имажинизма” английского подхода (в частности, это проявилось в том, что французские ученые оставили без перевода слово “спин”). Башляр присоединяется к французской традиции “ума сильного, но узкого” (характеристика, данная Дюгемом, основы этой типологии без применения ее к национальным ментальным характерам были разработаны еще Паскалем). В соответствии с этой традицией спин истолковывается без всякой наглядности вращения, как чисто рациональный конструкт. По Башляру, спин характеризует не изолированный электрон, а группу электронов, их композицию и поэтому представляет собой мыслительную конструкцию, независимую от образа, фиксирующего вращение электрона. Пусть эти высказывания Башляра не вполне корректны с точки зрения физики, согласно которой имеет смысл говорить о спине свободного электрона (он равен 1/2), однако их эпистемологический смысл вполне ясен: механическая аналогия, давшая наименование для этого свойства микрообъектов, является условной и реальное содержание данного понятия раскрывается не столько наглядным образом, сколько математическими конструкциями квантовой теории. Принципиальный недостаток механической аналогии правильно указывается Башляром: непрерывное вращение электрона несовместимо с квантовым (дискретным) характером спина. А поэтому адекватным языком для новой физической реальности (микрореальности) служит язык математики. Очевидно, что аналогичная ситуация имеется и во многих других случаях, в частности, в случае модели атома, предложенной Резерфордом (1911 г.). Эпистемологическое усвоение квантовых представлений и привело Башляра к констатации разрыва между классической физикой, с одной стороны, и физикой квантов и теорией относительности, с другой.
Концепция Мейерсона как бы воспроизводит в новых познавательных условиях позицию Парменида и его школы (принцип бытия, исключающий всякое становление и движение). Концепция же Башляра выступает, напротив, как критика своего рода нового элеатизма, вводящая в онтологию мира такие понятия, как становление, движение, возможность и отношение. С последней категорией связан целый пласт в эпистемологической концепции Башляра. Вместе с ней вступает в свои права категория структуры. Основной онтологический урок, преподанный современной физикой (и химией тоже), как его понимает Башляр, можно обрисовать прежде всего как реванш времени над пространством, волны — над частицей, поля — над вещью, ритма — над субстанцией. Ритм, выраженный величиной длины волны микрообъекта, вводится в онтологию физического мира на равных правах, по крайней мере, с не–ритмом. но это равноправие структурированного времени, по сути дела, лишь скрывает его фактическое господство над пространством.
3. Не–аристотелевская и не–картезианская
эпистемология
Переворачивание привычной, начиная с Аристотеля, связи вещи и отношения, субстанции и атрибута Башляр отмечает не только в современной физике, но и в химии. Действительно, уже учение о взаимном влиянии атомов в молекуле, представления о зависимости валентных свойств элементов от системы, в которую они входят, заставляют считать, что эра мышления, оперирующего понятиями о неизменных сущностях, кончилась. Теперь уже нельзя сказать, что вещь–субстрат целиком определяет свойство и отношение. Скорее, наоборот, сами отношения определяют то, что схватывается как вещество и субстанция. Такие выводы делает Башляр, отмечая зависимость химического сродства от взаимного влияния атомов (la communion) [52, с. 161]. Зависимость субстанциальных определений от “контекстуальных” факторов (взаимовлияния, взаимодействия, т.е. от системных моментов) входит в состав своего рода структуралистского урока, извлеченного Башляром из анализа современной ему науки. Башляр не употребляет таких выражений, как структурализм, структуральный анализ и т.п., но его позиция, особенно при попытке обобщить нововведения, внесенные современной наукой, в определенном смысле близка именно к структурализму. Поэтому недаром структуралистское движение, начало которого Башляр застал, нашло в нем своего эпистемолога, идеи которого были затем подхвачены, развиты, модифицированы, в чем–то (и значительно) преобразованы. Подводя к такому, еще как бы имплицитному структурализму, Башляр восклицает: “Пусть вспомнят множество реакций нового научного духа против асинтаксического мышления!” [52, с. 143]. “Асинтаксизм” характеризует прошлую науку, классическое естествознание. Употребление этого термина говорит о том, что в глазах Башляра современная наука пришла к конкретной разработке идеи взаимосвязи различных аспектов познания и реальности, что декартовская идея о существовании независимых и неизменных сущностей, изолированных по отношению друг к другу и могущих служить началами познания, не адекватна новой познавательной ситуации. Так, например, жесткое разделение субъекта (когито) и объекта не отвечает реальному положению дел в микрофизике с ее принципиальной интерференцией этих понятий.
Другим моментом критики картезианской методологии выступает у Башляра переосмысление понятия ясности. У Декарта оно связано с интуитивной очевидностью, с непосредственно усматриваемой в ясном положении абсолютной достоверностью. Башляр же отвергает непосредственный характер ясности, полагая ее исключительно операциональным понятием, т.е. таким, которое может быть построено или сконструировано в эксперименте, реальном или мыслимом. Примером для этого может служить понятие одновременности. В ньютоновской механике оно считалось интуитивно ясным. В механике специальной теории относительности (СТО) это понятие подвергается операциональному определению, оно конструируется и при этом выясняются новые важные моменты, затрагивающие весь пространственно–временной каркас событий, а значит, и их механические характеристики. Операциональность как принцип означает, что именно отношение делает ясным бытие, а не фиксированное и принятое за интуитивно ясное бытие определяет отношение. Так, одновременность в СТО есть конструируемое в операции синхронизации часов отношение, а не абсолютная, ясная сама по себе данность. С этим обстоятельством связано и другое, близкое к нему требование функциональности понятий и оснований знания. Нельзя удовлетворяться своего рода основаниями–в–себе, априорными принципами, проверки которых в качестве таковых не проводится. Основания должны испытываться, применяться, опробироваться, они должны подтвердить свой мандат быть основаниями. Иными словами, вместо интуитивной ясности Декарта Башляр вводит представление о функциональной и операциональной ясности.
В констатации разрыва между картезианской эпистемологией и эпистемологией нового научного духа подытоживаются и другие характеристики, фиксирующие противоположность между классической наукой и современной. “Метод Декарта, — говорит Башляр, — позволяет объяснить (expliquer) Мир, но не усложнить (compliquer) опыт, что представляет собой подлинную функцию объективного исследования” [52, с. 138]. Метод Декарта, подчеркивает Башляр, исключительно редукционистский, не позволяющий знанию расти интенсивно, без чего нет объективации мира в познании. Кроме того, Декарт предполагает изолированность простых сущностей, что никак не может быть согласовано с опытом современной микрофизики. И в подтверждение своей мысли Башляр цитирует Луи де Бройля, утверждавшего, что картезианская “программа объяснения мира с помощью фигур и движений не проходит, так как нельзя одновременно точно знать фигуру и движение” [3, с. 125; 79, с. 31]. Таким образом, “революция Гейзенберга”, его соотношение неопределенностей, в частности, служит препятствием для абсолютного анализа в духе Декарта. Этот вывод представляется нам вполне обоснованным и он действительно “бьет” не только по Декарту, но по всей программе механистического естествознания.
Но не только соотношение неопределенностей заставляет, по мысли Башляра, отвергнуть эпистемологию Декарта. Не менее существен в этой же функции ниспровергателя картезианских методов и принцип дополнительности Бора, в свете которого программа ограничения основ мира (и познания его) однозначными, интуитивно самоочевидными сущностями не проходит уже потому, что сущности такого рода всегда дополнительны (волна и частица, непрерывное и дискретное и т.п.). “Таким образом, имеет место, — говорит Башляр, — своего рода существенная двусмысленность в основаниях научного описания и непосредственный характер картезианской очевидности будет таким образом поколеблен” [52, с. 142]. Башляр отвергает, опираясь на свой анализ современной науки, картезианский тезис о примате простого над сложным, лежащий в основе редукционистской методологии. Обращаясь к спектроскопии, Башляр показывает, что “очертить простое можно лишь после углубленного изучения сложного” [50, с. 153]. Так, например, важное значение имеет в физике и химии понятие “вырождения”. В частности, спектр атома водорода понимается как вырожденная форма спектра щелочных металлов. Тонкая структура спектра водорода познается через сравнение со спектрами щелочных металлов: так простое познается через сложное. Вообще в современной науке, подчеркивает Башляр, устанавливается такая диалектика простого и сложного, которая осталась неведомой Декарту. И, в частности, поэтому картезианские правила для руководства ума оказываются способными к организации лишь “догматической и спокойной интеллектуальной жизни”, каковой нет в виду происходящих в науке революций.
Прав ли Башляр в своей критике Декарта? Мнения современных исследователей расходятся по этому вопросу. Так, например, М.Серр сомневается в правоте Башляра в развитых им в противовес Декарту представлениях о простом и сложном, которые подрывают картезианские представления. Однако ему аргументированно возражает Р.Мартэн, подчеркивая, что невозможность в свете современной науке составить абсолютный перечень первоэлементов отталкивает Башляра и от Декарта и от венского кружка [68, с. 89–90]. На наш взгляд, в некоторых пунктах критика Башляра является обоснованной, хотя нельзя считать спор Башляра с Декартом закрытым. Что касается его последствий, то можно сказать, что антикартезианская позиция Башляра была развита другими философами и историками, в частности, Мишелем Фуко, связавшим проблему этого спора с анализом социокультурных факторов. Философия Декарта лежит в основании традиции французского рационализма, к которой принадлежит и эпистемология Башляра. Уже только поэтому критика картезианства представляет собой далеко не простую задачу. Но эта критика, несомненно, справедлива в том плане, что она указывает на тесную связь картезианства с механицизмом, который не отвечает эпистемологии современной науки. И в этом аспекте критика Башляром Декарта нам представляется вполне оправданной.
Анализируя соотношение материи и излучения [52, гл. III], Башляр отмечает одно важное для онтологии обстоятельство: привычный глагол “обладать” (например, обладать свойствами) фактически заменяется при описании процессов в микромире, связанных с излучением, превращением микрочастиц и т.п., глаголом “быть”. Так, например, рассуждает философ, в свете новой атомной физики уже нельзя, как раньше, сказать, что материя (мы бы здесь сказали “вещество”) “обладает” энергией, а нужно сказать, что материя есть энергия. Наглядным примером такого тождества вещества и энергии выступает явление дефекта масс. Масса покоя не является инвариантом в такого рода микропроцессах. Инвариантом же является некоторая сумма масс и энергий, которые при этом отождествляются. Эти и подобные им примеры приводят Башляра к выводам о новой онтологической ситуации в микрофизике по сравнению с классической наукой, в которой такие понятия, как сила, масса, энергия и др. еще несут отпечаток их отдаленного происхождения из обыденного познания и его ограниченного опыта.
Это, правда, наше рассуждение, сам Башляр его не проводит, но оно реконструирует его мысль, указывающую на необходимость пересмотра аристотелевской логики. Если в аристотелевской субстрат–атрибутивной модели бытия субстрат “обладал” атрибутами, являясь их безусловным носителем, то теперь в системе микрообъектов атрибут и “есть” сама субстанция. Атрибут или свойство, тем самым, уравнен в правах с вещью или субстанцией.
Кроме того, тождество материи и энергии Башляр истолковывает как утверждение онтологического превосходства количества над качеством. Он говорит о большем богатстве количественных определений, о том, что в них содержится больше объективного содержания, чем в качественном описании. Здесь также скрыто звучит антиаристотелевский мотив, так как физика Стагирита была ориентирована явно квалитативистски.
Применяемый Башляром для раскрытия не–аристотелевского характера современной физики анализ объяснения голубизны неба нам представляется чрезмерно антисубстанциалистским. То обстоятельство, что в объяснительный потенциал этого явления включены законы светового рассеяния невозможно игнорировать. Но это не дает еще достаточного основания, на наш взгляд, говорить о том, что “голубизна неба имеет не более достоверное существование, чем небесный свод” [52, с. 66]. Действительно, небесный свод (как тело или вещь) — кажимость обыденного познания, исчезающая в свете астрономической науки. Но эффект рассеяния, совершающегося по формуле Рэлея, указывает не только на свойства излучения, но и на свойства материи, рассеивающей свет. Ведь эта формула имеет смысл только при условии, что частота падающего излучения очень мала по сравнению с собственной частотой колебаний электронов атомов рассеивающего вещества. А это означает, что голубой цвет чистого неба кое–что говорит и о субстанциальном устройстве рассеивающей материи и что, тем самым, нет той полной расшатанности субстанциальных связей, о которой говорит Башляр.
По мысли Башляра аристотелевская логика, кантовская гносеология и евклидова геометрия образуют единую мыслительную целостность, все части которой разламываются, если рушится единственность евклидовой геометрии как абсолютной онтологически значимой геометрии реального мира. В частности, о кантовском критицизме Башляр говорит: “Организация классического критицизма является совершенной для класса любых объектов обыденного и классического научного познания. Но поскольку классические науки были затронуты в их самых глубоких первоосновах и относительно микрообъекта было сказано, что он не следует принципам, которым подчиняется объект, то постольку критицизм нуждается в глубоком преобразовании” [52, с. 107]. Нарушение евклидовой локализации микрообъекта следует из соотношения неопределенностей Гейзенберга и оно же вытекает из специальной теории относительности, поскольку группа Лоренца не совпадает с группой евклидова пространства. Наличие релятивистских эффектов указывает на то, что евклидово пространство может рассматриваться как “вырожденный” случай не–евклидовых пространств. Аристотелевская логика предполагает неизменность вещей–субстанций, их однозначную локализацию в пространстве. Башляр такой онтологии противопоставляет онтологию вещей–движений. Таковым, в частности, он считает фотон [52, с. 62]. Эта новая онтология равносильна онтологии событий или явлений: “Современная наука, — говорит Башляр, — стремится познавать явления, а не вещи” [56, с. 109].
На Международном коллоквиуме, посвященном Башляру, обсуждался вопрос о том, признал бы он преемственность между учением Аристотеля о “естественных местах” (связь движения с местоположением тел, т.е. концепция пространства как конкретного порядка тел, которую Эйнштейн противопоставлял демокритовски–ньютоновскому пониманию пространства как абсолютно не связанного с телами “вместилища”) и теорией относительности. Мнение Р.Мартэна о том, что Башляр не признал бы ни в коем случае преемственности между Эйнштейном и Аристотелем, считая последнего типичным представителем пред–научных взглядов, не вызвала возражений [68, с. 43]. Согласие в этом вопросе обусловлено установкой Башляра на фиксацию разрывов в развитии знаний, его предрасположенностью видеть несовместимости в истории. Ситуация, однако, не так проста. Действительно, если в реальный генезис эйнштейновской концепции вклад теории Аристотеля действительно близок к нулю и сам Эйнштейн никак не связывал свои поиски выхода из трудностей тогдашней физики с обращением к Стагириту, то задним числом связь его концепции пространства, например, с Лейбницем уже была ясна и ему самому*, а ведь нетрудно видеть, что на Лейбница Аристотель безусловно повлиял, хотя Лейбниц и был самостоятельной фигурой, пытавшейся не в меньшей мере ассимилировать, особенно в ранний период своего творчества, противоположную аристотелевской доктрину античного атомизма в ее демокритовском варианте.
Мир современной науки, по Башляру, это мир “интеллектуализованного представления” и он отличается от обычного мира шопенгауэровского представления тем, что в первом мире мыслят, а во втором — живут. “Мир, в котором мыслят, — подчеркивает Башляр, — не есть мир, в котором живут. Философия “не” образует общее учение, которое сможет собрать воедино все примеры разрыва мысли с житейскими обязанностями” [56, с. 110]. Опять мы сталкиваемся с резким дуализмом двух миров. Мы уже говорили о том, что Башляр разделил человеческую способность к творчеству на две несообщающиеся между собой части: с одной стороны, на сферу чистой мысли, работающей по образцу абстрактной алгебры и лишенной всякой наглядности, и на сферу воображения, практически лишенного рационального элемента, с другой. И теперь мы видим, что такого же рода радикальный разрыв декларирован между миром жизни и миром мысли, как будто мысль не есть своего рода жизнь и, быть может, жизнь в ее величайшем напряжении и самовыражении, а жизнь не есть мысль в ее конкретике, в труде ее реализации. Однако никакие опосредования, никакие “перекрытия” и совпадения этих миров для Башляра немыслимы — здесь его стремление к диалектике приходит в конфликт с его жесткой логикой разрывов, множащей дуализмы и несовместимости.
Покажем, что логика Башляра–эпистемолога, прокламирующего “сюррационализм”, лишена порой рациональной определенности и требуемой для рационализма жесткости и самотождественности, обнаруживаясь при этом именно как логика фиксированных имажинативных оппозиций–схем. Действительно, фотон, как мы уже отметили, это, по Башляру, пример “вещи–движения”, “бытия–становления”, “субстанции–явления”. Это, очевидно, означает, что в системе представлений современной физики есть место и для категорий “бытия” (“вещи”) и для категорий “движения” и “явления”. Но для того, чтобы заострить момент разрыва, “пропедалировать” его до предела, Башляр, ничем при этом не аргументируя своего шага, отбрасывает одну половину категориального состава науки и объявляет, что “вещь — остановленное явление” [55, с. 109], что “логика не может быть больше субстанциалистской (chosiste) и должна реинтегрировать вещи в подвижность явления” [там же, с. 111]. Удержать многообразие категорий труднее, чем силовым или волевым актом пытаться свести его к однополюсному, разрывному единообразию. Так вместо диалектической онтологии “вещей–процессов” мы получаем онтологию чистых явлений, абсолютных подвижностей, бессубстанциальных отношений. Такая “логика разрывов” (выражение наше — В.В.) уменьшает значение историко–научных и эпистемологических анализов, проводимых Башляром. Например, Башляр констатирует принцип соответствия между старыми и новыми научными теориями. Хотя он и не употребляет этого выражения (“принцип соответствия”), но фактически его описания связей между механикой Ньютона и механикой Эйнштейна эквивалентны применению этого принципа, преодолевающего логику чистого разрыва.
Здесь требуется одно уточнение. Соотношение между классической и новой науками, по Башляру, есть не соотношение развития (le développement), а соотношение “охвата” (l'enveloppement). Новая наука дает общую сущность явлений, описываемых классической наукой, так что из нее они выводятся при определенных условиях (если скорости малы по сравнению со скоростью света или энергии велики по сравнению с минимальным квантом энергии микрообъекта), т.е. при v « c, E » hn. Однако, из “частных явлений” классической науки невозможно вывести “общие сущности” новой науки. И именно в силу этой принципиальной невыводимости между ними декларируется разрыв. Таким образом, Башляром признается не историческая преемственность старого и нового знания, а логическая связь нового и старого. Но в утверждениях об абсолютном онтологическом разрыве между микромиром и миром классической науки не проглядывает даже и эта, логическая, форма связи новой и классической науки. Удержаться на уровне таких понятий, как понятие “вещи–движения”, Башляр не может. Имажинативно такое понятие неуловимо. И поэтому, следуя логике воображения с характерным для нее выбором контрастов среди парных оппозиций (вещь — движение, бытие — становление, микро — макро, твердое — жидкое, неизменное — текучее, геометрия — алгебра, субстанция — отношение и т.п.), Башляр из дуалистической позиции, задаваемой современной наукой, переходит (и без аргументации, по крайней мере, достаточной) в позицию одностороннюю, что и проявляется как утверждение абсолютного разрыва. Пафосом разрыва он стремится компенсировать недостаток в логическом опосредовании, в рациональном обосновании такого перехода. Так в сферу рационализма и даже “сюррационализма” [67] врывается та же самая стихия воображения, анализ которой Башляр дает в своих работах по поэтике “материального воображения”.
Не–аристотелевская логика встает в повестку дня в современной философии науки потому, что в результате научной революции в физике и химии были открыты новые объекты, подчиняющиеся принципам новой онтологии. Главное, что отличает эти объекты от объектов классической науки, это — их высокой степени динамизм. “Устойчивый объект, — говорит Башляр, — неподвижный объект, вещь в состоянии покоя составляет сферу верификации аристотелевской логики. Теперь перед человеческим мышлением предстали новые объекты, которые не являются устойчивыми, не обладают никаким находящимся в покое свойством, и, следовательно, не обладают никакой концептуальной дефиницией... Следовательно, необходимо определить столько логик, сколько имеется типов объектов” [55, с. 111]. По поводу этой концепции, требующей смены логики при переходе к познанию нового типа объектов, нам бы хотелось сделать два замечания. Во–первых, данный тезис не учитывает того, что логика формируется не просто как общая мыслительная схема, отражающая или выражающая объект, но и как резюме конкретной исторической деятельности людей. Логики обязательно включают в себя схемы практик, способы образования человеческих субъект–субъектных коммуникаций (и здесь проступает связь логики с языком), а не только чисто объектный фактор. Именно совпадение в логических фигурах субъективного и объективного обусловливает их эффективность как познавательных средств, которые, однако, не меняются с каждым открытием новых объектов. Во–вторых, тип объекта, с введением которого в сферу его человеческого освоения должна, как говорит Башляр, меняться логика (создаваться новая), должен быть действительно радикально новым классом объектов, появление которого на горизонте познания предполагает серьезные мутации в формах исторической практики, в социальных структурах и т.п. Если это обстоятельство не принимается во внимание, то тогда само понятие логики обесценивается и можно — по–напрасному — говорить о необходимости новой логики в связи, например, с открытием нового химического элемента, или элементарной частицы, или в связи с еще каким–либо открытием, которое не достаточно глубоко преобразует познание, не будучи связано с радикальными переменами в социальной практике, в способах организации общественного субъекта.
Однако не только перемены в естественных науках стимулируют постановку проблемы новых логик, но и перемены в математике. Так, например, согласно взглядам интуиционистов, в математике закон исключенного третьего не является универсальным и действителен только для конечных множеств (т.е. для множеств, содержащих конечное число элементов). Для множеств с бесконечным числом элементов должна быть построена новая логика, где этот закон не действует. Такая логическая система, в частности, была предложена в 1930 г. А.Гейтингом. Аналогичная попытка построения логики без закона исключенного третьего была сделана в 30–ых годах и Полеттой Феврие, опиравшейся на соотношение неопределенностей Гейзенберга. Работы Феврие были высоко оценены физиками (Л.Бриллюеном и П.Ланжевеном) и привлекли внимание Башляра. С одной стороны, Феврие дала логическое обобщение соотношения неопределенностей Гейзенберга, а с другой, исследовала логику, вытекающую из принципа квантования энергии частицы. В частности, последнее обстоятельство вносит усложнение в понятие “ложное” (и, соответственно, в понятие “истинности”). Действительно, одно дело приписать электрону то значение энергии, которым он не обладает, но может обладать (один из возможных для него дискретных уровней энергии), и совсем другое приписать ему то значение энергии, которым он обладать и не может. Так возникает идея трехзначной логики. Такая логика может быть сведена, как и сама квантовая механика, к обычной аристотелевской логике, если пренебречь постоянной Планка, положив ее равной нулю. Таким образом, новая логика так же охватывает старую, как и новая механика включает в себя классическую. Классические системы в обоих случаях оказываются “вырожденным” случаем не–классических систем.
4. Не–лавуазьевская химия
Башляр написал несколько работ, специально посвященных философским проблемам химии, анализируемым им на богатом историко–научном материале*. Но, пожалуй, наибольший интерес представляет его концепция не–классической (не–лавуазьевской) химии.
Когда французский историк химии Эмиль Гримо в 1888 г. писал, что “вся современная наука есть только развитие трудов Лавуазье” [15, с. 135], уже тогда в химии происходили события, которые Башляр оценивал в 1940 г. как начало новой, не–лавуазьевской химии. Точки зрения Гримо и Башляра диаметрально противоположны. И дело вовсе не в их личном отношении к Лавуазье или к вопросам о приоритете с ним связанным. Дело в том, что для Башляра вся программа, заложенная в химической революции Лавуазье, исчерпала себя уже где–то к концу XIX в. и окончательно отошла с переднего рубежа науки в первой трети XX в. Лавуазье заложил основы классической химии, разработав аналитические методы, развив представление о таких фундаментальных законах, как закон сохранения массы веществ в ходе химической реакции. Химия во многом благодаря именно Лавуазье стала методически поставленной научной дисциплиной. Джуа не без основания сравнивает метод Лавуазье с методом Галилея [15, с. 146]. Действительно, в программе Лавуазье сочетаются строгий эмпиризм или, лучше сказать, экспериментализм с теоретическими конструкциями, верифицируемыми в эксперименте и дающими возможность экстенсивного развития исследований. В основу критерия строгости химических понятий Лавуазье положил точные, количественно воспроизводимые измерения, прежде всего с помощью весов. И химическая практика и химическая теория были, тем самым, не только упорядочены, но, что весьма существенно, этот порядок был достигнут за счет их тесной взаимозависимости. До–лавуазьевская химия, в частности, флогистика, с точки зрения Лавуазье и его школы, использовали слишком “туманные”, нестрогие и операционально (количественно и экспериментально) не определенные понятия. “Настало время, — говорит Лавуазье, — привести химию к тому, чтобы делать умозаключения более строгим образом, освободить факты, которыми ежедневно обогащается эта наука, от того, что к ним добавили толкования и предвзятые мнения” [15, с. 139].
Лавуазье был не только для Гримо как “историка–шовиниста” (именно так рассматривает его Джуа) основателем современной химии, но, например, и для Д.И.Менделеева, которого трудно заподозрить в избытке франкофильского патриотизма [30, с. 513 и др.]. Программа Лавуазье, основавшего классическую химию — современную, по Менделееву, и в конце XIX в. — построена на понятии простого тела. “Простое тело... служит исходом, принимается за первичное, к которому сводятся все остальные (тела)” [30, с. 16]. Этот абсолютный элементаризм простых тел позволяет сопоставить программу Лавуазье с методологической программой Декарта, согласно которому в основе знания должны лежать ясные, отчетливые и неизменные понятия. Именно такое сопоставление и лежит в основе концепции не–лавуазьевской химии Башляра. “Не–лавуазьевская химия, — говорит философ, — особый случай того, что в “Новом научном духе” мы назвали не–картезианской эпистемологией” [56, c. 79]. Действительно, химия Лавуазье — это химия абсолютных простых тел. Абсолютных в том смысле, что простые тела неизменны (мыслятся таковыми) и образуют при помощи целочисленных пропорций сложные тела или химические соединения, свойства которых также неизменно с ними связаны. Развивая мысли Башляра, мы можем сказать — и думаем, что философ с нами бы согласился, — что существует комплекс аристотелевской логики, картезианской эпистемологии и лавуазьевской химии. И именно весь этот комплекс целиком и полностью оказался взорванным происходящими в конце XIX и в первой трети XX в. изменениями и в физике и в химии.
В химии Лавуазье свойства тел определяются через качественный и количественный их состав независимо от конкретных операций по получению этих тел. Здесь мы хотим подчеркнуть один момент, небезынтересный для истории науки. Башляр ничего нам не говорит о том примечательном обстоятельстве, что сам Лавуазье перед своими опытами взвешивал не только все исходные вещества, не только воздух, с которым они соприкасались (как в знаменитом опыте 1774 г. с прокаливанием ртути), но и приборы [30, с. 5]. Это обстоятельство указывает на то, что часто гениальные ученые идут впереди не только своих предшественников и современников, но и тех последователей, которые “обрезают” в их творчестве поиск и интуицию, основывая “нормальную науку”. Так было с Ньютоном, так было и с Лавуазье. И если строго учесть этот процедурный момент в экспериментах Лавуазье, если поставить его под свет эпистемологической рефлексии, то можно (мы здесь заостряем вполне умышленно наше суждение) будет сказать, что основателем не–лавуазьевской химии был сам Лавуазье! Ведь включая прибор, а тем самым и субъекта научной объективации, в систему экспериментального контроля и количественной оценки, Лавуазье предвосхищал типичные особенности не–классической науки. Башляр прошел мимо этого обстоятельства. Так под пером философа эпистемология с ее схематизмом порой берет верх над историей.
Если воспользоваться языком концептуальных систем химии (В.И.Кузнецов), то отличие лавуазьевской химии от не–лавуазьевской можно описать как отличие теорий первой концептуальной системы (в основе их лежит определение свойств вещества через его состав) от теорий второй системы (определение свойств через структуру). Если кратко выразить критерий отличия классической химии от неклассической, то его можно свести к не–обязательности устойчивого молекулярного образования как результата взаимодействия исходных веществ [27, с. 293]. Иными словами, объекты и величины, которые в классике мыслятся как абсолютно неизменные и целочисленные (линия Пруста), в не–классическом варианте химии становятся доступными для непрерывного изменения (линия Бертолле). Абсолютистское аналитическое мышление сменяется, таким образом, структурным и кинетическим, так что в самой не–классической химии можно выделить несколько различных этапов, отделенных друг от друга своего рода разрывами. Характерно, что многие крупные химики, в частности, Н.С.Курнаков, видели, что химия, основанная на идеях Бертолле, является более общей, включающей в свою систему как свой частный случай стационарную химию Пруста и, добавим, Лавуазье [29, с. 34]. Сказанное, однако, не означает, что эпистемологическая рефлексия Башляра не оригинальна и лишена интереса. Никто с такой ясностью не показал, как в современной химии складывается и функционирует своего рода аналог соотношения неопределенностей Гейзенберга с его не–картезианскими установками. Декарт считал, что понятия, которые лежат в основании познания, должны (и могут) быть и абсолютно ясными и отчетливыми. В отчетливость входит и определение тонкости, аналитической зрелости познания. Но познавательная ситуация в современной химии такова, рассуждает Башляр, что эти два требования оказываются взаимно несовместимыми. В самом деле, ясность в определении, скажем, реагирующих веществ, достигается за счет того, что отвлекаются от множества факторов реакционного процесса и, тем самым, второе требование, требование отчетливости и аналитической определенности ситуации, оказывается неудовлетворенным.
Поясним эту мысль. Химик, утверждая, что он имеет дело с таким–то веществом, которому соответствует такая–то формула, например, H2O, на самом деле добивается этой определенности за счет того, что не принимает во внимание примеси, водородные связи молекул воды, процессы на поверхности фаз и т.п. Если он с этой формулой связывает и определенный конечный набор свойств, то опять это ему удается только потому, что он не учитывает вариабельности свойств изучаемого объекта, их зависимости от различных факторов и т.д. Если же, напротив, химик стремится учесть весь континуум свойств изучаемой системы, то ясность утрачивается и он уже не может дать ни четкой и устойчивой формулы вещества, с которым он имеет дело, ни указать однозначно тот процесс, который в этой системе протекает. Иными словами, учет сложности реальной системы достигается за счет утраты ясности, которая имелась в первом случае. Первый вид познания Башляр называет “ясным познанием” (connaissance claire), второй — “познанием отчетливым” (étude distincte). Во втором виде познания на первый план выступают взаимодействия и микрофакторы, которые иногда очень существенны, как, например, в случае катализа (кинетические факторы), а в первом случае, напротив, познание ограничивается статикой и за счет этого достигается ясность и определенность. “Всегда имеется все тот же парадокс, — заключает Башляр, — ясно познают то, что познают грубо, а если же хотят знать не грубо, а тонко (distinctement), то познание множится, раздрабливается, а единое ядро понятия, схваченное в первом приближении, взрывается” [56, с. 79]. С известной долей упрощения эту фундаментальную апорию химии можно выразить так: статика — первое приближение, кинетика — второе. Таким образом, если хотят достичь статической ясности, то утрачивают кинетическую тонкость второго приближения, иными словами, здесь имеет место эпистемологическая дизъюнкция: или статика (первое приближение) или кинетика (второе приближение). В обоих случаях познание оказывается неполным. Итак, мы приходим к существенной дополнительности, к ситуации взаимной несовместимости “переменных” химического познания в духе соотношения неопределенностей Гейзенберга. Можно сопоставить оба рассмотренных вида познания как познание интуитивное (ясное, статическое) и познание дискурсивное (отчетливое, кинетическое). Тогда этот аналог соотношения неопределенностей будет выражаться так: или ясность без достаточной четкости, или же четкость без приемлемого уровня ясности.
Это “ядро” концепции не–лавуазьевской химии становится еще более ясным, если принять во внимание, что Башляр дополняет свой анализ рассмотрением некоторых существенных особенностей химии 20–30–х гг., прежде всего кинетических теорий, которые тогда интенсивно развивались. В частности, особенно важным представляется ему понятие траектории химической реакции. В этой связи Башляр анализирует взгляды французского химика Поля Рено, выдвинувшего понятие химической траектории (trajectoire chimique). В связи с защитой (сопровождаемой даже восторгом) Башляром этого понятия нас поразило, что такой “сюррационалист”, такой непримиримый противник воображения в науке вдруг поет чуть ли не гимн метафоре!* И только потому, что иначе он не может выразить свое преклонение перед рационалистическими качествами этого понятия, сконструированного на острие метафоры механической траектории как следа в реальном пространстве. Это частное обстоятельство, на наш взгляд, показывает несостоятельность “манихейской” позиции по отношению к воображению и разуму. Как и в случае не–классической физики в химической кинетике функциональное пространство оказывается онтологически более весомым, чем считаемое реальным пространство геометрии Евклида. Как в физике энергия в ее онтологическом статусе выступает паритетно с массой или, как говорит Башляр, материей, так и в химии кинетика открывает колоссальную роль энергетических процессов в объяснении механизмов превращений веществ. Как и в физике, в химии обнаруживаются аналогические сдвиги в онтологии и эпистемологии. Мы имеем в виду, в первую очередь, закат наивного реализма и субстанциализма, точнее, его ограничение, так как большинство работающих химиков, подчеркивает Башляр, остается на позициях наивного реализма, которые органичны для химии как традиционно эмпирической науки. Но в онтологию химии в связи с ее не–лавуазьевским характером Башляр вводит такие понятия, как понятие “сюр–станции” (sur–stance) и “эк–станции” (ex–stance). Они вводятся потому, что основу лавуазьевской химии, по Башляру, составляло понятие статической субстанции. Понятие “сюр–станции”, взятое у Уайтхеда, и понятие “эк–станции” представляются Башляру удачными потому, что они расширяют субстанциалистский горизонт классической химии и показывают онтологическую новизну новой химии. Игра всех трех понятий, по мысли эпистемолога, должна представить реальное поле онтологии “метахимии”, т.е. той совокупной химии на стадии ее революционных преобразований, которая соединяет в себе все традиции и включает классическую химию как свой особый случай. В частности, “вместе с этой теорией эк–станции, — говорит Башляр, — абсолютный детерминизм эволюции субстанциальных качеств ослабляется, и переходят от фазы точки к фазе волны” [56, с. 78].
В нашей отечественной методологии химии, особенно в работах В.И.Кузнецова [27], было обращено внимание на то, что в современной химии возрождается прежде отвергнутая концепция Бертолле. Переориентация химии с программы Пруста на программу Бертолле и переориентация химии от “точки” к “волне” — это совпадающие оценки революционного перелома в развитии химии. Здесь анализ Башляра вполне корректен, хотя к используемому им языку можно относиться по–разному. Но если понимать, что это только язык, то содержание такого анализа в целом можно принять. Итак, отечественные история и философия химии пришли к схожему с башляровским определению основного водораздела, разделяющего классическую химию от не–классической.
Нам остается только добавить, что сам термин “не–лавуазьевская химия” принадлежит не Башляру, а Ж.Матиссу, вкладывавшему в него другой смысл. Процессы аннигиляции частиц, а именно такого рода процессы Матисс предлагал назвать “не–лавуазьевской химией”, Башляр оставил в распоряжении физики, а не–лавуазьевская химия в его трактовке определилась как химия прогрессирующей динамизации вещества. Динамизация химии, по Башляру, ведет существующую химию к образованию такого комплекса как “панхимия” или “метахимия”, в котором существенное место занимают исследования динамических процессов, например, катализа.
Вот как характеризует динамизацию химии как основную интенцию ее развития Башляр: “Стало мало–помалу ясным, что статические интуиции отныне являются недостаточными, чтобы вполне схватить и понять в мышлении химические реакции. Слова наличие (présence), со–существование, контакт, ранее очень высоко оцениваемые..., теперь не являются больше хорошо определенными, начиная с того момента как вещества вступают в реакцию” [56, с. 65]. Высказывание важное и показательное, достойное комментирования. Отметим, прежде всего, тему эпистемологического препятствия, в нем звучащую. Высокая оценка (преувеличенно высокая) статического мышления характеризуется Башляром как препятствие для развития химии в определенный период ее развития.
Что же именно составляет механизм эпистемологического препятствия? Высокая (преувеличенная) оценка или “валоризация” определенных понятий. Валоризация мыслится как некоторое психологически сформированное и функционирующее в познавательных актах предпочтение, как психологическая привычка интеллекта.
Башляр верно определил главное направление развития химических исследований в XX веке. Динамизация мышления, а затем и его историзация действительно выступают как одна из ведущих тенденций развития не только химии, но во многом и всего комплекса естественных наук. Показательны в этой связи, например, работы нобелевского лауреата Ильи Пригожина, в которых мы найдем множество прямых и косвенных совпадений с динамическими позициями Башляра, например, в оценке роли “функциональных” пространств, их приоритета над евклидовскими [33, с. 12], в проблематизации картезианской простоты микроскопического уровня [там же, с. 11]. Но основная “перекличка” Пригожина и Башляра состоит в их близком, почти совпадающем понимании основной тенденции в развитии современного естествознания — от статики к динамике. Пригожин говорит, что “время — это ключ к пониманию природы” [там же, с. 252]. Башляр же подчеркивает в свою очередь, что современная химия стремится представить статическое вещество как серию или “фильм” веществ, что она строит как бы “четки” из неустойчивых промежуточных соединений. Иными словами, в центр ее внимания попадает не вещество как таковое, взятое в его статическом срезе, а процесс (он, правда, не подчеркивает в отличие от Пригожина его существенной необратимости), становление, “которое вырисовывается за бытием” [56, с. 66]. Если Пригожин говорит о своего рода взаимодействии существования и возникновения [33, с. 251], то Башляр говорит о “диалоге между веществом (читай: существующим или бытием) и энергией (читай: возникновением или становлением — вст. наши — В.В.)” [56, с. 66]. “Становление, — говорит философ, — не является ни унитарным, ни непрерывным. Это своего рода диалог между веществом и энергией. Энергетические обмены определяют вещественные изменения, а они в свою очередь, обуславливают энергетические обмены. И именно здесь появляется тема сущностной динамизации вещества или субстанции. Субстанция и энергия уравнены в своих бытийных правах” [56, с. 66]. Связь с Пригожиным ярче выступит тогда, когда мы обратим внимание на то, что для Башляра энергия — способ внедрения времени в естествознание. Именно “посредством энергии время накладывает свой отпечаток на вещество. Поэтому прежняя концепция вещества, вынесенная по определению за пределы времени, более не состоятельна” [там же, с. 67]. Эти высказывания Башляра почти буквально совпадают со словами Пригожина о том, что время наконец–то вступает в свои неотчуждаемые права в естественных науках.
В тридцатые годы термодинамика необратимых процессов только зарождалась. Поэтому неудивительно, что Башляр рассматривал динамизацию химии на других примерах, в частности, на примерах развивавшихся тогда кинетических теорий и фотохимии. Именно фотохимию он предложил рассматривать как основной образец не–лавуазьевской химии. Взаимодействие светового излучения, частицы которого лишены массы покоя, с веществом не могло не привлечь внимания Башляра, обратившего внимание как раз на те процессы, в которых максимальным образом проявляются энергетические моменты, динамические и волновые факторы. Мы видели как интересовал Башляра фотоэффект и его уравнения, данные Эйнштейном. Мы видели также, что термин “не–лавуазьевская химия” Башляр взял у Матисса, обратившего внимание на процессы аннигиляционного толка. Оба эти момента и определили выбор фотохимии как типичной не–лавуазьевской химической дисциплины. “Она отказывается, — говорит Башляр, обосновывая свой выбор, — от простоты и стабильности элементарных субстанций” [56, с. 69].
В связи с концепцией не–лавуазьевской химии отметим разрыв в развитии химии на уровне ее экспериментально–технической базы и связанный с ним разрыв обыденного опыта и опыта современно–научного. “Наука Лавуазье, — говорит Башляр, — основавшая позитивизм весов, находится в непрерывной связи с непосредственными моментами повседневного опыта. Но дело меняется, когда к материализму присоединяется электромагнетизм. Электрические явления атомов — скрыты. Их надо подвергнуть инструментальной обработке, не имеющей прямого смысла в обыденной жизни. В химии Лавуазье хлорид натрия взвешивают так, как в обыденном опыте взвешивают на кухне поваренную соль. Условия точности взвешивания в науке только уточняют, усовершенствуют условия коммерческой точности. От одной точности к другой — везде здесь мышление меры сохраняется неизменным” [58, с. 103]. Терминология Башляра и его “уравнения” — сопоставление электромагнетизма и материализма — могут шокировать читателя, для которого материализм и электромагнетизм никак не однопорядковые понятия. Но Башляр понимает материализм как механистическое мировоззрение, в основе которого лежит отождествление понятия массы классической механики с понятием материи. За этим шокирующим противопоставлением лежит реальность перехода от механистической картины мира к электромагнитной.
Но интерес приведенного пассажа не в этом. Башляр настаивает на отсутствии разрыва, на непрерывности между обыденным опытом кухни (и коммерции) и научным опытом лавуазьевской химии. И там и там весы играют фундаментальную роль и небольшим количественным различием в точности взвешиваний в обоих сферах можно пренебречь, считая, так рассуждает Башляр, что между этими сферами сохраняется безразрывная преемственность и близость. Этот пассаж важен и тем, что показывает позицию Башляра в целом, для которого подлинный разрыв с обыденным познанием происходит только в не–классической науке (в частности, если речь идет о химии, то в не–лавуазьевской химии). Но такая позиция внутренне противоречива. Действительно, до–классические системы знаний получают у Башляра титул до–научных (pré–scientifiques). Сюда он относит флогистонную химию, аристотелевскую динамику и другие учения натурфилософского толка. И трудно понять научные революции XVII в. и революцию Лавуазье XVIII в. в химии без характеристики классической науки как науки, осуществляющей решительный скачок по отношению к пред–научным учениям. Но позиция Башляра такова, что ему подлинным разрывом с миром обыденного сознания и повседневного опыта представляется только возникновение не–классических наук. Даже Лавуазье для него еще во многом представитель преднаучной химии, так как у великого реформатора химии действует валоризация биологического царства, ставящая растения и животные над миром минералов и металлов [55, с. 150].
Как же, согласно Башляру, осуществляется переход от обыденного познания к научному, от пред–науки к науке? Основной механизм такого перехода — многократные исправления и уточнения знания. И Башляр произносит свои ставшие знаменитыми слова: “Течение мысли, которое нужно охарактеризовать как научное, действует ниже тех преград, которые встают на его пути. Рациональная мысль не “начинается”. Она очищает. Она исправляет (régularise). Она нормализует” [58, с. 112]. Все эти изменения — очищение, исправление, уточнение, упорядочивание, номировка, — которые рассматриваются как источник превращения пред–науки (и даже обыденного познания) в науку, не являются, по Башляру, разрывами, резкими качественными скачками. Скачки, революции, решительные разрывы с прошлым для него — привилегия современной науки.
Итог своим размышлениям о соотношении между обыденным познанием и познанием научным Башляр подвел в конце своей последней эпистемолого–исторической работы: “Мы считаем, — говорит он, — что научный прогресс всегда демонстрирует разрыв, постоянные разрывы, между обыденным познанием и познанием научным как только имеют дело с развитой наукой, которая в силу самого факта этих разрывов несет печать современности” [60, с. 207, курсив наш — В.В.].
Разрыв здесь мыслится как универсальный механизм прогресса науки, как реальность ее развития, приводящая к феномену современной науки, о которой следует сказать, что она решительно порывает и с классической наукой и с обыденным познанием. И тот же Лавуазье при сравнении его с Ламарком, отстаивавшим теорию флогистона в своем мемуаре 1797 г., предстает как ученый, решительным образом порывающий с принципами флогистики как способа объяснения химических явлений. Анализируя это противостояние Ламарка как флогистика и Лавуазье как основателя кислородной теории горения, Башляр приходит к таким выводам: “Здесь нет, несмотря на обычное мнение, непрерывной филиации. Скорее здесь имеется переворачивание перспективы” [там же, с. 219, курсив наш — В.В.]. У Ламарка доминирует индивидуальное наблюдение, опирающееся и поддерживающее флогистонную теорию, а у Лавуазье, как подчеркивает философ, “социально организованный эксперимент и новые теоретические понятия, ему отвечающие” [там же]. Этот пример из истории химии нужен Башляру для того, чтобы показать, что даже такой гениальный наблюдатель, каким является Ж.–Б.Ламарк, бессилен дать правильное научное объяснение явлениям горения, если он вращается в пределах старых теоретических понятий и связанных с ними способов экспериментирования и наблюдения.
Мы показали на примере Лавуазье, что Башляр находит в его творчестве как моменты, описываемые им на языке разрывов, так и моменты, которые он описывает на языке филиации и непрерывности. По отношению к флогистонному периоду развития химии систематическое применение кухонно–коммерческой операции взвешивания, столь простой и присущей обыденному опыту, является несомненно революционной процедурой, если при этом создаются новые теоретические понятия, отражающие этот новый количественный базис химии.
5. Осмысление разрывного характера научного
развития в поздних работах Башляра
Как же Башляр понимает разрыв в развитии знания, каков его механизм? Разрыв — “переворачивание перспективы”, вызванное тем, что в научном знании действует системный принцип, т.е. знание организуется как целое и в этом смысле характеризуется определенной замкнутостью, а поэтому его изменение неизбежно происходит взрывообразно, так как вся система оказывается поставленной под вопрос и нуждается поэтому в полной перестройке (refonte), в замене ее новой системой, что и отмечается как разрыв или дисконтинуальность в развитии. Ярким примером разрыва, считает Башляр, служит создание ламп накаливания. В лампе Эдисона “ переворачивается” все мышление, связывающее горение с необходимостью его питания, среды, топлива. Эта связь фиксирована уже на уровне обыденного сознания. “Старая технология ламп, — говорит Башляр, — технология горения. Новая — техника предотвращения горения” [58, с. 107]. Это и есть “переворачивание перспективы”, отмеченное им по другому поводу в связи с Лавуазье.
Действительно, прежняя осветительная техника исходила из модели горения: при сгорании топлива выделяется световое излучение. В лампе накаливания перспектива перевернута: чтобы лампа функционировала в качестве осветительного прибора, она нуждается не в горении, а, напротив, в исключении самой возможности горения! В лампе накаливания реализован радикально новый принцип световой эмиссии — не горение, а излучение света за счет разогревания электрическим током металлической нити в условиях ее предохранения от горения, осуществляемого откачкой воздуха из пространства лампы. Система наивных интуиций, образовывавших основу прежней технологии осветительных устройств, должна быть полностью отброшена, так как она является замкнутой системой и в ее рамках эта техника просто не может совершенствоваться. Поэтому в силу императива прогресса науки и техники старая система взрывается. Так от “эмпиризма наблюдения” переходят к “прикладному рационализму” [58, с. 108].
Этот пример представляется нам корректным по своей аналитической проработанности и действительно позволяет идентифицировать дискретные или разрывные моменты в развитии науки. В частности, открытие М.С.Цветом элюентного (или проявительного) варианта жидкостно–адсорбционной хроматографии представляет собой такого рода “переворачивание перспективы” по отношению к тем работам по сорбции, авторы которых рассматривались нередко в истории науки как “предшественники” Цвета [12]. Очевидно, что при наличии такого “переворачивания” тезис о существовании предшественников во всех случаях и для всего оказывается если и не совсем бесплодным, то во всяком случае малопродуктивным, маскирующим дисконтинуальные моменты в развитии науки. Такие переворачивания или инверсии — не редкое событие в истории науки. Так, при переходе от пред–химии к научной химии можно зафиксировать обращение соотношения простого и сложного. В четырехэлементной теории химических начал, идущей от Эмпедокла и Аристотеля, простота предположена, а сложное выводится из нее. Но химия, чтобы стать научной, должна была сделать простоту химических элементов результатом многообразных аналитических процедур, количественно поставленных. То, что считалось в пред–химии простым, стало сложным. Так, например, Кавендиш доказал, что вода не является простым телом (элементом). Лавуазье это твердо доказал для воздуха. “Такие открытия, — комментирует рассказ о них Башляр, — взламывают историю. Они свидетельствуют о тотальном поражении непосредственности (l'immdiat)” [60, с. 74].
Понятие эпистемологического разрыва было особенно дорого для Башляра. В своей последней работе по эпистемологии он вступает в спор со своими оппонентами, которых называет “континуалистами культуры”. Имена он опускает. Но нетрудно распознать среди континуалистов культуры и Мейерсона и Дюгема и других историков и эпистемологов. Башляр сводит их аргументацию к трем основным моментам. Во–первых, континуалисты культуры ссылаются на непрерывность истории как совершающего развития практики и теории, перенося на “объективную” историю непрерывность “субъективного” исторического рассказа о событиях. “Так как в истории строится непрерывный рассказ о событиях, — говорит Башляр, — то легко верят в их существование в непрерывности времени, незаметным образом приписывая тем самым всей истории единство и непрерывность книги” [60, с. 209]. Непрерывность чтения исторического рассказа переносится на саму историческую реальность. Этому способствуют и распространенные жанры историко–научной литературы, в которых изложение идей, открытий и других когнитивных сторон прогресса науки перемежается элементами биографии ученых и внешней истории. Такая манера написания истории способствует возникновению иллюзии непрерывности самой истории, так как любой рассказ, любая деталь может быть как бы “увеличена” и в нее можно при этом вставить новый рассказ с новыми деталями — и так до бесконечности. Возникает — в силу самой манеры исторической наррации — иллюзия непрерывности исторической реальности. Кажется, что только нехватка места и времени не дали историку еще полнее (еще непрерывнее) рассказать о событиях, которые в реальности были осуществленной непрерывностью культуры. Башляр, однако, стремится совсем к другой истории науки: его в ней интересует не обилие деталей, не их квази–непрерывность, а напротив, строгая иерархия важного и малозначительного с точки зрения роста объективного знания. Самое важное в истории, по Башляру, — этапы, ступени разума, разрывоподобные движения рационального мышления, смена научных программ, инверсии в подходах, возникновение теорий, меняющих тотальность научного знания.
Второй аргумент континуалистов культуры в защиту их концепции состоит в отсылке ко множеству анонимных тружеников науки, к “научной атмосфере”, к “влияниям” и т.п. Башляр резко критикует расхожее в историографии и как правило некритически употребляемое представление о влиянии: Чем дальше от фактов, — говорит он, — тем легче говорят о “влияниях”. И затем добавляет: “Это представление о влиянии, столь дорогое для философского ума, не имеет никакого смысла для понимания передачи истин и открытий в современной науке” [60, с. 212]. Чтобы лучше понять столь острую критику представления о влиянии мы должны пояснить, как Башляр понимает влияние. Он его истолковывает как некоторое бессознательное или подсознательное или, по крайней мере, недоосознанное воздействие. Но, согласно его концепции, научный прогресс как раз элиминирует бессознательный момент и приводит научное мышление к тому, чтобы новые знания максимально осознавались учеными. Само понятие прогресса науки, по Башляру, неотделимо от роста момента рефлексии в составе науки, определяющего господство рационального над иррациональным, сознательного над подсознательным, явного и дискурсивного — над скрытым и интуитивным. Поэтому, мы реконструируем здесь возможный ход мысли философа, если представление о влиянии и может как–то отобразить развитие знания в далеком прошлом, особенно в пред–научные эпохи, то для анализа современной науки оно годится в малой степени и, скорее, может только исказить ее историю. “Мало–помалу, — говорит Башляр, — все, что имеется в знании бессознательного и пассивного, оказывается подчиненным” [там же]. Нерелевантность представления о влиянии истории современной науки, по Башляру, объясняется и тем, что в ней рационально организованная дискуссия составляет саму “ткань” научного развития, и аргументы, которые в ней перекрещиваются, это, — подчеркивает Башляр, — “поводы для разрывов (discontinuités)” [там же].
Эта критика представления о влиянии представляется нам заслуживающей внимания. В 50е годы с критикой этого понятия, но построенной иначе, выступил и Александр Койре [99]. Койре подчеркивал автономность творческой личности ученого, которая как бы сама выбирает источники влияний на себя, что означает, что представление о влиянии, предполагающее пассивность его объекта, оказывается неадекватным реальной истории мысли. Спонтанность, автономия и активность самостроительства познающего личного разума — вот интеллектуалистско–интерналистские аргументы Койре против представления о внешнем влиянии.
Аргументы Башляра нам кажутся, пожалуй, более заостренными исторически и апеллируют не столько к сильной и активной личности “корифеев науки”, сколько к реалиям достаточно безличного современного научного мышления. Обе позиции интересны, хотя и несут на себе печать ограниченности установок их создателей. Критическое отношение к представлению о влиянии было впоследствии развито в трудах нового поколения эпистемологов и историков, в особенности у Фуко, нашедшего для критики этого представления более веские аргументы [84]. И мы, конечно, не используем критики Башляром представления о влиянии для объяснения подобной критики у Фуко в терминах влияния. Ситуацию скорее следует описывать иначе. Башляр знаменует своей эпистемологией начало разрыва со многими привычками и установками истории и философии науки, традиционно преподаваемых во Франции. А Фуко осознает свою позицию, ориентируясь на этот намеченный Башляром разрыв, но оформляя его по–своему, создавая свою оригинальную и во многом совсем не похожую на башляровскую концепцию. Термин “влияние”, нам так кажется, скрывает за собой другие, более адекватные выражения — акт выбора, роль ситуации, ее осознание, наконец, творчество, являющееся развернутым актом выбора и развивающим его обоснование, т.е. одновременно и предполагающее выбор и творящее его содержание ("что").
Третьим аргументом континуалистов культуры как оппонентов Башляра выступает вера в то, что тезис о непрерывности (между обыденным познанием и научным) является естественной педагогической презумпцией. Для педагогики, так считают континуалисты, важно хранить традицию доступного знания, знания как бы непрерывно переходящего в обыденный опыт с тем, чтобы современная наука была доступна преподаванию в его установках на легкость формы, на наглядность и демократизм. Но этот аргумент решительно отвергается Башляром, согласно которому современное знание принципиально трудно, так как лишено наглядности и не имеет аналогов в обыденной жизни. Башляр считает, что такого рода континуализм опасен как раз с педагогической точки зрения. Использование наглядных образов, метафор и т.п. может только повести по ложному пути мышление обучающегося и дать ему искаженное представление о современных научных понятиях, которые никоим образом не могут пониматься наглядно и легко. Современная наука, скажем мы, реконструируя мысль философа, должна четко осознавать условность своего языка. Необходимо также осознавать разрыв между языком, употребляемым в науке, и научной реализацией значений этого языка. Например, в физике употребляются такие термины, как “температура” и “испарение” по отношению к ядерным процессам, в химии же употребляется понятие “траектории реакции” и т.п. Подобный язык несет отпечаток своего происхождения из сферы обыденного опыта и классических представлений. Внедрение в научное сознание понятия моделирования помогает в осуществлении функции такого различения (“испарение” в ядерной физике или “траектория реакции” в химии — это только модели совершенно других процессов, чем те, на которые указывает непосредственно язык этой терминологии). Осознание модельной функции научного языка позволяет закрепить его дистанцирование от его реального предмета, чем современная наука отличается от классической науки и тем более от обыденного познания.
Критическое отношение к представлению о влиянии дополняется у Башляра подобным отношением к традициям в истории науки. Слишком часто в своих анализах он сталкивается с тем, что традиции тормозят принятие новых идей, они, как он иногда говорит, поистине “ленивы” [60, с. 223]. В частности, анализ истории установления состава озона приводит Башляра к скепсису по отношению к традициям. “Когда знают, какова же истинная природа молекулы озона, — говорит философ, — то отдают себе отчет в том, что верные идеи сформировались вопреки истории или, по крайней мере, в атмосфере диалектического духа, умеющего в определенные моменты исторического развития противостоять ленивым традициям” [там же, с. 223]. К традициям, авторитетам, к истории вообще Башляр призывает относиться “диалектически”, т.е. умея нарушать эти традиции, осмеливаясь отказываться от подчинения авторитетам. Он призывает бороться против течения истории, когда все эти инстанции стоят преградой на пути нового, подчас неминуемо странного знания, неожиданного и непривычного для восприятия. И не только тень Мартина Лютера встает за кадром этих пассажей Башляра, но и Фридриха Ницше. “Как говорит Ницше, — пишет Башляр, — все, что является определяющим, рождается вопреки. И это столь же верно для мира мысли, сколь и для мира действия. Любая новая истина рождается вопреки очевидности, любой новый опыт — вопреки непосредственному опыту” [52, с. 7]. Мы бы назвали намеченную здесь интенцию своего рода романтическим протестантизмом в эпистемологии. Очевидно, что такая интенция приводит к валоризации именно разрыва как новаторства–вопреки, как преодоления препятствий, создаваемых традицией, обыденным миром привычного здравого смысла. Анализируя эти высказывания, широко распространенные по всем эпистемологическим сочинениям Башляра, мы приходим к выводу, что в его концепции на уровне ее основных установок происходит своеобразный синтез крайнего рационализма с пафосом философии жизни Ницше или философии творческой эволюции Бергсона.
Правда, идеи Бергсона отвергаются Башляром как метафизический спиритуализм, неспособный понять феномен современной науки. Разум и у Мейерсона с его философией тождества, и у Бергсона с его иррационализмом “жизненного порыва”, противопоставленного разуму, не способному схватить время (т.е. жизнь и само бытие), слишком неподвижен и адинамичен, чтобы, как считает Башляр, понять чудо современной науки. Свой тезис о тождественности разума Мейерсон подкрепляет, так сказать, “физиологическим” аргументом, согласно которому мозг, будучи обычным органом человеческого организма, не может эволюционировать быстрее, чем любой другой орган. На это Башляр решительно возражает: “Почему же мозг, не есть подлинный росток (bourgeon) эволюции, жизненного порыва (élan vital)?” Если у Бергсона “жизненный порыв” был иррационалистическим понятием, то у Башляра эта же самая категория переносится в сферу разума, в стихию рациональности. “Мышление — говорит Башляр, — ищет диалектические возможности выйти за свои собственные пределы” [52, с. 177]. Разум, по Башляру, наделен способностью к самопреодолению и эта способность и обозначается им как “жизненный порыв” разума, его внутренняя динамика. Только такой разум и является разумом творческим [там же, с. 178]. И на этом “порыве” основаны все разрывы исторической рациональности, все скачки в развитии знания. Таким образом, мы видим, что башлярдизм оказывается как бы бергсонианством наизнанку: источником изначального бытийного творческого импульса у него выступает не иррациональная жизнь, не инстинкт, а разум, рациональное начало. Бергсонианство отвергнуто. Но не просто отвергнуто: оно как бы и усвоено в его инверсии, в преобразованной форме. Вот образец такого бергсонианства наизнанку: “Понимание, — говорит Башляр, — обладает динамической осью, это — духовный порыв, это — жизненный порыв” [52, с. 179]. В концепции “жизненного порыва” разума фокусируется витопсихологизм романтического рационализма Башляра, являющийся ключом к пониманию его эпистемологии разрывов.
Башляр не просто “увлечен” идеей разрывности развития знания, он пытается дать и научно–философское ее обоснование. Непрерывность предполагает, что любое событие может быть обнаружено. Так, если некоторая система эволюционирует от состояния A к состоянию Б, то в принципе, рассуждая теоретически, между любыми пунктами этой эволюции можно обнаружить среднее звено. Однако экспериментальная процедура подобной детекции имеет пороговый характер: изменения ниже предела разрешимости прибора фиксироваться не будут. Как говорит Башляр, разбирая такую ситуацию, “разрывное число замещает собой непрерывное измерение” [53, с. 76]. Практически осуществленное измерение всегда разрывно, только “ошибка непрерывна” [там же]. Действительно, зона ошибки — это некоторая “размазанная” сфера вокруг истинной величины. В конце концов, сама объективная реальность, по Башляру, дискретна, разрывна. “Объективность, — говорит он, — становится тем более чистой, чем скорее она перестает быть пассивным бытием с тем, чтобы стать более активным, перестать быть непрерывной с тем, чтобы более очевидным образом стать прерывной” [там же, с. 76–77].
На наш взгляд, концепция разрывности в развитии знаний у Башляра опирается на представление о прерывности времени, которое, в свою очередь, зависит от прерывности микромира, вскрытой квантовой физикой. Прерывность энергетических процессов, прерывный характер такой величины как действие (минимальный квант действия зафиксирован постоянной Планка h) указывает на прерывность времени, в том числе и исторического времени. И устойчивость континуалистской концепции истории объясняется, по Башляру, только психологическими факторами — педагогическими привычками и т.п. Континуализация истории происходит потому, рассуждает философ, что существует психологическая потребность, стремящаяся свести новое к старым элементам, перевести неизвестное или малопонятное на язык знакомых понятий, короче, редуцировать новизну посредством экспансии привычного, известного и знакомого, данного в прошлом и прочно усвоенного. И здесь в конфликт с такой редукционистской и ассимиляторской установкой вступает вера Башляра в то, что высшее добро достигается через движение и творческие акты. А движение и творчество немыслимы без принятия разрывности. У Башляра можно обнаружить и такую оппозицию: ум — начало прерывности, душа — непрерывна. “Музыкальное действие, — говорит философ, — дисконтинуально, и только наш сентиментальный резонанс придает ему непрерывность” [53, с. 116]. А в другом месте он говорит, что “душа расплавляет своими чувствованиями прерывные определения ума” [69, с. 71].
Мы показали, насколько глубоко Башляр привержен принципу прерывности, считая, что презумпция прерывности методологически более правильна, особенно при анализе современной науки и ее истории, чем обратная ей столь широко распространенная презумпция непрерывности. “Истинная методологическая осторожность, — говорит Башляр, — состоит в постулировании дисконтинуальности как только убеждаются в том, что изменение произошло. Однако в этом случае обыкновение и привычное стремление состоят в том, чтобы утверждать подразумеваемую непрерывность” [53, с. 49].
Но все нами сказанное не означает, что Башляр вовсе исключает категорию непрерывности из анализа истории знаний. У него мы находим и такие высказывания, которые могут нас озадачить и вызвать нечто вроде недоумения, если мы решим, что непрерывности для него вообще не существует. Можно сказать, объясняя эту сложность мысли Башляра, что непрерывность слишком серьезное и глубокое понятие, чтобы избавиться от него отсылкой к онтологии квантов. Действительно, именно наука является, по Башляру, инстанцией подлинной непрерывности. Это кажется после всего сказанного парадоксом. “Научное мышление, — говорит Башляр, — есть начало, дающее максимум непрерывности жизни, это мышление, которое помимо всего прочего, богато силой связывать времена, или, если употребить столь дорогое Коржибскому понятие, научное мышление есть в высшей степени time binding. Благодаря ему изолированные и разобщенные моменты крепко связываются между собой” [56, с. 127].
Как же объяснить этот пассаж, казалось бы явно идущий в разрез со всей “эпистемологией разрывов” (выражение Кангилема)? На наш взгляд, все объясняется тем, что понятия непрерывности и прерывности иерархизированы в концепции Башляра таким образом, что первичной и базовой выступает именно прерывность, а коль скоро она установлена, то открывается место для связи раздельно определенных моментов. Время и история в принципе дисконтинуальны. Однако существует в истории и связь, когезия времен, понятий, традиций, старого и нового, т.е. инстанция континуализации. Научная мысль в высшей степени обладает этими связывающими свойствами. Благодаря такой связи, устанавливаемой на поле разрывов, раскрывается, по Башляру, истинная, а не иллюзорная, предположенная априорно и некритически, непрерывность. И именно такая, подлинная, непрерывность определяет магистральную линию развития науки, которая осознается и учеными как творцами современного знания. Нам представляется, что объяснение непрерывности истории проводится Башляром в связи с его концепцией нормальной истории, т.е. истории, очищенной от ошибок и препятствий. Ведь разрывы возникают не в такой отпрепарированной истории, а в истории реальной, например, при переходе от Аристотеля к Галилею или от Ньютона к Эйнштейну и т.п. или при переходе (если такой вообще возможен — здесь существует, несомненно, трудность) от обыденного познания к научному. Но история, прошедшая суд современного ученого (башляровский историк науки смоделирован по его образу), оказывается связью рациональных содержаний, т.е. связью одних только истин (а не заблуждений и истин, так как между ними, по Башляру, разрыв, а не связь).
Отметим еще один момент башляровской концепции разрывов. Башляр подчеркивает, что разрывный характер наука набирает со временем и что дисконтинуальность — характерная черта именно новой науки. Конечно, он не отрицает в принципе разрывов и в прошлом. Но на заре научного развития продвижение науки вперед было очень медленным, а медленность приводит к тому, что это развитие кажется непрерывным [60, с. 210]. Классическая наука, как мы видели, связана с познанием обыденным, т.е. определенная непрерывность между ними, по Башляру, есть. Но современная наука решительно порывает и с обыденным познанием и с классической наукой — разрыв становится ее отличительной характеристикой. “Наука, — говорит Башляр, — начиная с двух последних веков и особенно с начала нашего века, предстает как поле исправлений ошибок, она находится в состоянии перманентной эпистемологической революции” [61, с. 18].
По Башляру рост науки отмечен явной нелинейностью. Нелинейность проявляется в том, в частности, что радикально преобразуются сами основания знания. Стремясь показать такого рода нелинейность роста науки, Башляр цитирует Уайтхеда: “Самым великим изобретением XIX в. является изобретение методов изобретений” [61, с. 19]. Разрывы, считает Башляр, были и в науке прошлого. Но разрывность в количественном плане неизмеримо выросла в науке XX в. Именно поэтому он нередко употребляет такое выражение для обозначения специфики изменений в науке XX в. как “перманентная революция”. Однако эта ситуация раскалывает сознание и поведение современного ученого, считает Башляр. “Ученый, — говорит Башляр, имея в виду современного ученого, — наделен двойным поведением... Сами ученые, как только они начинают объяснять свою науку учащимся, как только они включаются в ее преподавание, стараются континуализировать научное познание, соединить его непрерывной связью с обыденным познанием... Сама история науки, когда ее представляют в короткой преамбуле к научным трудам в качестве подготовки нового знания знанием прошлым, подчеркивает моменты непрерывности” [58, с. 104–105].
Однако в своей работе исследователей эти же ученые стоят на позициях разрыва между обыденным познанием и современным научным познанием. Эта ситуация, по Башляру, объясняет психологическую атмосферу, в которой создается иллюзия полного господства непрерывности в научном развитии. Учитывая эти эффекты, Башляр, особенно в полемике, чрезмерно акцентирует внимание, напротив, на разрывном характере развития науки, не устает множить примеры таких разрывов. Но исследователь творчества Башляра должен отдавать себе отчет в полемическом характере этих, так сказать, дисконтинуалистских преувеличений, понимая, что истинная позиция философа не была чужда попытке рассмотреть связь прерывности и разрывности, хотя в целом момент разрыва и выступал у него как доминирующий.
В подтверждение такой, на наш взгляд, более взвешенной оценки концепции разрывов в эпистемологии Башляра укажем на анализ связи прерывности и непрерывности в его докладе на Международном симпозиуме “Человек перед лицом науки” (Швейцария, 1952 г.) [61]. В этом докладе Башляр раскрыл свое понимание социального характера науки в современном мире. Наука включает в себя передачу знаний, причем механизмы такой передачи являются социально оформленными. “Связывая себя со своими коллегами, — говорит Башляр, — ученый, видимо, обеспечивает и связность своих идей” [61, с. 27]. И, таким образом, эта связность (следовательно, и непрерывность) является необходимым моментом научного знания и его развития*. И само научное знание определяется им как “существенное сцепление познаний” [там же]. Исходя из рассмотрения науки как такой передачи знаний, Башляр приходит к следующему определению науки: наука — это “работа, продолжающая предшествующие труды, призванная помочь другим работникам, короче говоря, наука продолжает науку в то же самое время, в которое она сама себя обновляет” [там же, с. 28]. Таким образом, Башляр мыслит науку как самообновление (и здесь нельзя обойтись без фиксации разрывного характера движения знания) и одновременно как континуальное, непрерывное течение: наука продолжает (continue) науку, говорит философ. Конечно, базой этого синтеза является, по мысли Башляра, творчество, невозможное без разрывов и революций. Но эти процессы одновременно и продолжают науку, т.е. в самой разрывности науки прокладывает себе путь непрерывность ее развития. Мы видели, что Башляр использует понятия “разрыва”, “перестройки”, “революции”. Но он ввел и понятие “продолжающейся” или “длящейся” (science continuée) науки. Это понятие он выдвигает в полемике с философами, которые, как он считает, склонны всегда начинать все с нуля, с чистой доски (tabula rasa), что Башляр полемически обыгрывает, называя таких философов “рыцарями Чистой Доски” (chevaliers de la Table Rase). Этому философствующему одиночке–робинзону Башляр противопоставляет образ современного ученого–коллективиста, работающего совместно и со своими предшественниками и со своими коллегами, объединенными в сообщество.
Связь разрывов и непрерывности можно было бы представить себе, пытаясь реконструировать мысль Башляра, следующим образом. В начале исследования история знания предстает перед анализирующим ее эпистемологом–историком как смешанная, “спутанная” непрерывность. Это как бы аналог некоторого первородного “хаоса”. Анализ историка, ставящего эпистемологические вопросы, обрабатывает этот “хаос” таким образом, что при этом возникает как бы спектр, своего рода полосы поглощения, фиксирующие четкие линии разрывов. Но сами разрывы — неравноценны. Аналитику–историку, стремящемуся к постижению истории познания, нельзя ограничиться констатацией разрывов без их упорядочивания. Сами разрывы на этой стадии исследования выступают как бы хаотически. Если первая стадия была нами обозначена как спутанная непрерывность, то вторая — это неорганизованная совокупность разрывов. Наконец, на третьей стадии обработки истории возникает упорядочивание самих разрывов, их иерархизация, выстраивание в ряды, сополагание в последовательности и т.п. Благодаря этому возникает связь, т.е. непрерывность, построенная на базе самих разрывов. Порядок в разрывах говорит нам о магистральных линиях, о сквозных проблемах и т.п., т.е. происходит реальный синтез непрерывности и прерывности, пусть при этом, как это имеет место у Башляра, ведущая роль и принадлежит разрывам.
Башляр не отрицает непрерывности как таковой, но он различает непрерывность иллюзорную, функционирующую как некритическое предубеждение, как презумпцию здравого смысла, обращающегося к истории науки, и непрерывность подлинную. Последняя должна быть еще найдена, построена, сконструирована*. И если Башляр недостаточно эксплицировал связь прерывности и непрерывности, то это сделали другие эпистемологи, разделившие в целом его дисконтинуализм, как, например, М.Фуко.
Башляр, на наш взгляд, преувеличивает глубину разрыва, отделяющего современную науку от науки прошлого. Напротив, другие разрывы, имевшие место в истории науки и техники, у него не акцентированы, как бы сглажены, их значение преуменьшено, а иногда они и просто разрывами не признаются. Именно так обстоит дело со знаменитым “греческим чудом”, как принято называть рождение теоретического мышления в древней Греции. Башляр как бы неохотно признает, что в VI–IV вв. до н.э. в Греции произошел разрыв с наследием восточных культур, с традицией эмпирических знаний древнейших цивилизаций. Башляр явно склонен затенять великие ломки в интеллектуальном развитии, которые происходили задолго до современной научной революции. Ж.Валь справедливо упрекает его в недооценке революции в познании, совершенной греками, указывая как на ее яркий пример на открытие иррациональности [61, с. 179]. Но разрывной динамики развития в античности Башляр не хочет замечать, подчеркивая не этот разрыв, осуществленный открытием иррациональных чисел, а совершенно другой — разрыв современной науки с ее античными якобы предвосхищениями, например, в атомистике. Позиция Башляра в этом конкретном пункте нам представляется справедливой: действительно, между античной атомистикой и современной имеется разрыв и поэтому вряд ли можно говорить о преемственности между Демокритом, с одной стороны, и Бором или Гейзенбергом, с другой, как это нередко делают историки науки*.
С концепцией разрывов прямо связана и осторожность Башляра в применении к истории знаний представления о предшественниках. Некритическое использование этого представления маскирует эпистемологические разрывы. Башляр анализирует ряд случаев, когда историки зачисляют в число предшественников научных достижений представителей пред–научной или до–научной культуры. Мы уже упоминали о невозможности для Башляра считать греческих атомистов предшественниками создателей современного атомизма. Но проанализируем другой, быть может, менее известный пример.
Строго научным образом оптические явления с электрическими связал Максвелл, установив количественную связь между диэлектрической постоянной (k) и показателем преломления (n): K = n2. В натурфилософии Шеллинга, с ее принципом тождества, световой “принцип” и электрический сближались. Но, подчеркивает Башляр, такое сближение было поверхностным, так как “не включало в себя никакой конструктивной мысли и не могло послужить для разработки какой–либо техники” [58, с. 153]. Башляр подчеркивает, что натурфилософия Шеллинга принадлежит к другой культуре, чем физика Максвелла. И это замечание — существенно с нашей точки зрения. Невозможность считать Шеллинга–натурфилософа предшественником Максвелла–физика базируется на том, что построения обоих мыслителей включены в совершенно разные контексты культуры. У Максвелла это — развивающаяся культура математической физики (Био, Фурье, Гамильтон и др. ее представители), а у Шеллинга это — культура немецкого романтизма и классического идеализма. Немецкий классический идеализм в шеллингианском варианте далек от рациональной инструменталистской научной культуры. В частности, сам Шеллинг считал, что приборы, машины, измерительная техника только препятствуют познанию, так как разрушают естественный характер явлений природы. Отсюда адекватным методом познания природы выступает у Шеллинга спекулятивный философско–созерцательный метод. Поэтому физика Шеллинга ближе к “Физике” Аристотеля, чем к физике новоевропейских ученых от Галилея до Максвелла. Это совсем иная культура и традиция, чем математическое естествознание.
Действительно, математическая физика в отличие от умозрительной предполагает схватывание природных явлений в компактном математическом их представлении. Характеристики природных объектов, таким образом, вычисляются и предсказываются, а измерения служат средством проверки исходных математически оформленных гипотез, лежащих в основе рациональных теоретических конструкций. Вот какой эпистемологический урок извлекает Башляр, анализируя открытие Максвелла, и, так сказать, натурфилософское его “предвосхищение” Шеллингом: “Самые скромные проблемы научной практики говорят об одном и том же философском уроке: понять новое явление не означает просто присоединить его к уже накопленному знанию, нет, понять его значит реорганизовать сами принципы знания так, чтобы они при этом выяснились настолько, чтобы можно было сказать: все это можно предвидеть” [58, с. 153, курсив наш — В.В.]. Здесь существенно то, что концепция разрывов и критика представлений о предвосхищениях и предшественниках базируются на структурном понимании научного знания. В дисконтинуалистской эпистемологии Башляра научное знание понимается как целостная, рационально сконструированная система. Континуалистская и кумулятивистская концепция (кумулятивизм и континуализм тесно связаны) исходит из другой модели научного знания: знание в принципе бесструктурно и поэтому к его “массе” можно свободно присоединять новые элементы — какими бы по качеству и количеству они ни были. Модель знания в этих концепциях похожа на снежный ком — новые знания без помех “лепятся” к имеющемуся “наследию”. Но в концепции Башляра знание имеет определенную качественно заданную целостность, оно строится как единая связная система сверху донизу. И поэтому новое явление может просто не вместиться в данную систему знания и тем самым послужить поводом для создания другой системы, которая целиком бы отвергала предыдущую. Итак, системность и структурная организованность знания (Башляр всегда разделял этот подход) приводят к необходимости разрывов в движении знания.
Связь системной целостности знания и разрывного характера его развития у Башляра еще недостаточно эксплицирована. Но именно она объясняет нам, почему башляровская эпистемология разрывов стала историческим базисом для развития структуралистских эпистемологий во Франции второй половины XX в. У Башляра нет понятия, репрезентирующего целостное, структурно определенное единство знания и аналогичного куновскому понятию парадигмы (1962 г.). Аналоги куновских парадигм мы найдем во французской традиции впоследствии у некоторых эпистемологов, на которых влияние Башляра несомненно (например, понятие эпистемы в некоторых работах Фуко). Тем не менее, несмотря на отсутствие у Башляра такого понятия, представление о внутреннем единстве знаний определенной эпохи и культуры у него выдвигается, в частности, в его полемике с индуктивизмом.
Представление о разрывном характере движения знания не было для Башляра отвлеченным представлением теоретика. Он непосредственно, можно сказать, личностно и экзистенциально, переживал историческое время как радикальный разрыв. Исследуя эпистемологические препятствия, он внимательно изучал трактаты пред–научной эпохи — книги по флогистике и магнетизму, натурфилософские труды аббатов–любителей.
“Я читал вместе, в одну ночь, — пишет Башляр, — труд аббата Бертолона и прекрасную книгу Кейди о пьезоэлектричестве*. Менее двух веков разделяют этих авторов, но мысли их не имеют ничего общего, никакой возможной филиации идей между ними нет. Безбрежный синтез эрудита XVIII века не синтезирует больше ничего. Пробегая бесконечное творение Бертолона, можно сказать, что это — наука, но без научного мышления. Факты, сообщаемые в этом труде никоим образом не являются для нас научными фактами. Они не могут служить базой никакому современному образованию, сколь бы элементарным оно ни было” [58, с. 213]. Итак, разрыв здесь — полный. Научное образование не может ничего себе взять из трудов эрудитов XVIII в. Башляр как бы извиняется перед читателем и перед самим собой в своей упрямой и необъяснимой любви к такого рода книгам: “Когда я читаю старые книги, которые я люблю еще немного, сам не зная почему, то у меня возникает впечатление мира фактов и мыслей, которых больше нет. Мы живем в другой Вселенной. Мы мыслим в другом мышлении” [58, с. 214]. И он заканчивает это признание такими словами: “Понимание — не резюме прошлого. Понимание — сам акт становления духа” [там же]. Понимание как самовосстановление духа (здесь речь идет о становлении научного духа, даже нового научного духа) не присоединяет к прошлому новые факты, новые мысли, а радикально порывает с ним, создавая новое целостное мышление, которому нечего позаимствовать даже для своей популяризации у науки прошлого. Эпистемология разрывов поражает нас своим, так сказать, антиисторическим историзмом, за которым стоит радикальный презентизм — отождествление общих нормативов научности с нормами современной науки, сопровождающееся осуждением всей прошлой науки как не–науки в силу того, что она подчиняется другим нормам и правилам. Но как же все–таки в эпистемологии Башляра соотносятся разрыв и преемственность, то, что он называет “филиацией”? Мы только что видели, что Башляр словно под влиянием своего эмоционального настроя, как бы проецируя на историю свои установки и предпочтения, оценки или валоризации, создает картину практически полного разрыва между наукой XVIII в. и современным знанием. Никаких связей, утверждает он, между ними нет. Старое знание ровным счетом ни на что не пригодно в новых условиях. Но эта установочно–эмоциональная картина, надо сказать, порой — и не так уж редко — расходится с конкретными анализами эпистемолога–историка. Его же собственные примеры рисуют несколько иную картину.
Действительно, подводя итоги историческим экскурсам Башляра, мы можем раскрыть картину связей науки сегодняшнего дня с наукой прошлого. Переведем эту проблему в план соотношения “истины” и “заблуждения” (это не означает, что современная наука — истина в последней инстанции). История заблуждений всегда имеет точки соприкосновения с историей истины. Прошлое не только блуждает в нелепых идеях (например, у аббата Бертолона была навязчивая идея все без исключения явления вывести из свойств электрического флюида), но оно и создает возможности для опровержения заблуждений, для выхода к истине. Так, например, Вольта в том же XVIII в. создает возможность освободить представление об электричестве от его жесткой связи с анимализмом и анимизмом. Открытия, опыты, смелые мысли создают поле возможностей для нового мышления, для истины. И развитие знаний не может не использовать этих возможностей, хотя многие устремленные в будущее диспозиции и остаются долго без, казалось бы, последствий, не меняя привычные идеи и представления. Пусть в целом предыстория науки об электричестве это — история заблуждений, ошибок, ложных связей, предвзятых идей, граничащих с предрассудками. Но и в такой текстуре возникают ходы в верном направлении, т.е. в направлении открытия путей для получения объективного знания, по крайней мере, созидаются возможности для их прокладывания.
Итак, Башляр прав, разрыв — налицо. Но он не прав в то же время потому, что при этом действует и преемственность как созидание возможностей для самого разрыва, для новых представлений, для эпистемологического скачка. Сами эти возможности, о которых умалчивает Башляр, носят характер одновременно и эпистемологический и социальный. Это и возможности новых норм деятельности, новых запретов, новых традиций и образцов в рамках определенного сообщества ученых и в то же время это новые когнитивные моменты, новые ходы мысли в плане содержания знания. Социальные и когнитивные моменты тесно связаны. Они взаимно поддерживают друг друга, так как у них общая цель — производство объективного знания, работа “в режиме истины”. Но Башляр проходит мимо этой взаимосвязи заблуждений и истины. Он очарован самим феноменом современной науки. В этом коренится его своего рода романтический презентизм. Современная наука для него подобна Афине–Палладе, во всеоружии выходящей из головы Зевса: созидание возможностей для ее скачкообразного появления на горизонте общества и культуры им практически не замечается. Разрыв потрясает философа и эстетически и эмоционально. И, будучи под его впечатлением, он не замечает динамического поля возможностей, созидаемых в пред–научную эпоху.
Итак, проанализировав концепцию разрывов Башляра и определив ее односторонности, мы приходим к такому выводу: преемственность пред–научного развития и развития научного должна пониматься не на уровне готовых достижений, не на уровне фиксированных результатов или бытия, а на уровне (их) возможностей. На уровне ставшего бытия (результатов) “единолично” господствует разрыв, но на уровне возможностей он неизбежно дополняется преемственностью. Преемственность — не очевидна в той картине, которую рисует Башляр. И надо перейти в план анализа созидания возможностей для прокладывания путей, ведущих к получению объективного знания, к нахождению “алгоритмов” его продуцирования в ходе истории с тем, чтобы дополнить его выводы о разрывах выводами о преемственности, которая скрыта так, как раньше был скрыт от эпистемологов (Дюгем, Мейерсон и другие сторонники континуализма и кумулятивизма) сам разрыв.
Глава третья
Понятие эпистемологического препятствия
1. Эпистемологическое препятствие:
интерналистский подход
Тема познавательного барьера на пути познания истины является “вечной” темой гносеологии. В философии рационализма всегда обсуждалась проблема очищения интеллекта, снятия преград на пути его правильного функционирования. В качестве помех познанию рассматривались различные явления, прежде всего, сама чувственность человека. Разделение познания на истинное и мнимое, на мир “истины” (алетейа) и мир “мнения” (докса) мы находим уже в философии Парменида. О том, что чувства не дают нам знания истины, т.е. знания подлинно сущего, учит и атомизм Левкиппа и Демокрита. К этой теме рационалистической гносеологии принадлежит и знаменитый миф о пещере Платона и учение о призраках “рода” и “рынка” Ф.Бэкона и многое другое. Можно сказать, что Башляр со своей концепцией эпистемологического препятствия продолжает эту традицию. Однако его подход отличается большим своеобразием. Достаточно только в этой связи указать на то, что сама традиционная гносеология рассматривается Башляром как пример эпистемологического препятствия*.
В концепции эпистемологического препятствия проявились оригинальные и сильные стороны башляровской эпистемологии и в то же время ее противоречия и пределы. В континуалистской концепции развития науки проблемы препятствия не стояло. Знание считалось способным присоединяться к любому имеющемуся уже знанию. Знание прошлое и знание современное характеризовались поэтому как однородные образования, совместимые друг с другом. Отсюда вытекало представление о кумулятивном характере движения знания. Башляр, учитывая опыт научной революции XX в., поставил своей задачей создание новой, динамической эпистемологии, в которой важную роль должны играть возвратные движения идей, упорное сопротивление новому, взламывание всей познавательной системы и замена ее новой. В плане такого замысла понятие о препятствии выполняет существенную функцию, являясь вместе с понятием разрыва основным понятием башляровской эпистемологии.
Представление об эпистемологических препятствиях вырабатывается Башляром в его отталкивании от кумулятивистской, континуалистской и индуктивистской философии науки, слишком легко описывающей движение знания как прогресс, как рост, как безостановочное его приращение. Критическое отношение к этого рода философии науки было вызвано как усвоением опыта научных кризисов XX в., так и складывающейся на его основе новой историографией науки. Не один Башляр приходит в это время к пониманию сложности и противоречивости движения науки. Диалектика истории знаний не осталась чуждой и для А.Койре, который писал: “Путь ума к познанию истины — не прямой путь. Он полон обходов, тупиков, возвратов. И этих путей много, он не один” [100, с. 361]. В свете такой установки и создается учение Башляра об эпистемологических препятствиях, на конкретную форму которого повлияло его увлечение фрейдовским психоанализом, привлекшим в 20–30–е годы внимание многих исследователей*. Однако не само это увлечение было здесь определяющим моментом. Главным были конкретный анализ истории науки, эпистемологические установки, сформировавшиеся у Башляра еще до его знакомства с психоанализом и нашедшие свое систематическое выражение в его трактате о приближенном познании. Сама идея препятствия органически вписывается в философскую установку Башляра: разум преодолевает себя, он способен к самотрансценденции. Этот важнейший момент башляровского рационализма (и интернализма в историографии) означает, что, во–первых, обретя свою автономию, разум (esprit) совершает движение вперед, к новым знаниям, и, во–вторых, разум сам препятствует достижению прогресса. “Препятствия науке (и это весьма примечательно) составляют часть самой науки”. В этом замечании Мена де Бирана, процитированном Брюнсвиком и Башляром [58, с. 15], содержится основной принцип концепции эпистемологического препятствия — принцип имманентности препятствия тому, по отношению к чему данное формообразование рассматривается как препятствие. Правда, переходя к Башляру, мы бы сказали, что препятствия имменентны разуму, а не науке. Преодолевая препятствия, разум преодолевает самого себя.
Тезис об имманентности препятствия не свободен от противоречий. Действительно, в состав препятствий Башляр включает и такие образования, которые, строго говоря, отнести к сфере разума нелегко, тем более, к науке. Но существенно здесь то, что Башляр стремится абстрагироваться от внешних факторов развития науки и не рассматривать их в своей эпистемологии.
2. Ошибка и препятствие
Мы усматриваем определенную связь выдвинутого Башляром представления об ошибке и ее исправлении с понятием препятствия. Действительно, ошибки исправляются, а препятствия преодолеваются. Отметим сходство и различие “ошибки” и “препятствия”. Исправление устраняет ошибку, исправленное знание — это продвинутое вперед в направлении прогрессивного развития знание. Ошибка устраняется необратимо. Но преодоление препятствия не означает, что препятствие устранено. Оно только преодолено — этот процесс одноразовый и, в принципе, препятствие снова встанет на пути познания. Препятствия, так сказать, неустранимы, а ошибки — устранимы. Можно сказать, что препятствия — константные ошибки, возвращающиеся ошибки, ошибки с рекурсией. И именно так и обстоит дело в концепции Башляра.
Концепция ошибки у Башляра отличается достаточной объяснительной силой и глубиной. Сама наука начинается с “ошибки” в магии, со “срыва” в мифе, с “ляпсуса” в ритуале, с “прокола” в безудержном воображении и фантазии. Категория ошибки, таким образом, становится достаточно широкой эволюционной и исторической категорией, а не только понятием, фиксирующим нечто несовместимое с нормами разума или науки. Именно в таком контексте мыслится ошибка в теориях эволюции. И этот смысл ошибки будет подхвачен в дальнейшем французской эпистемологической мысли (прежде всего, Кангилемом [10, с. 136]).
В текстах Башляра наблюдается определенная корреляция, связывающая такие понятия, как препятствие и его преодоление, с понятием ошибки и ее исправления. Например, в своей работе “Об эволюции одной физической проблемы” [47] Башляр анализирует поспешные обобщения, уводящие решение проблемы природы тепла в сторону, направляющие его по ложному пути. Так, в конце XVIII — начале XIX в., несмотря на кислородную теорию Лавуазье, влияние флогистики было еще достаточно сильным. И поэтому распространение тепла в твердых телах рассматривалось наподобие перемещения масла по фитилю в лампе. Другой пример такого же рода генерализации на основе теории флогистона — анализ Ламарком изменения в ходе горения цвета сжигаемого предмета. “При зарождении научных учений, — говорит Башляр, — общее тормозит открытие, давая легковесные подтверждения непосредственно выдвигаемым гипотезам. Фонтенель замечал, что из двух возможных объяснений одного явления наиболее часто правильным является то, которое нам казалось наименее естественным... Самые замечательные умы направлялись по ложному пути, когда они устремлялись к расширению (знания — вст. наша — В.В.) до того, как сделать его более компактным” [47, с. 160]. И здесь же Башляр использует понятие исправления, понимаемое как “очищение” обобщений благодаря выдвижению точно определенных абстракций. И этот путь выправления ошибочного и есть путь преодоления препятствия.
Итак, и в случае исторического становления научного знания, и в случае обучения этому знанию в современной культуре обнаруживаются одни и те же препятствия. Это — первичные интуиции, непосредственные впечатления, квазиочевидности, лежащие на поверхности явлений. Так, например, при изучении закона Архимеда нелегко догадаться, что плавающие тела и тела, погруженные в жидкость (потонувшие), подчинены одному и тому же закону. Непосредственный опыт склонен приписывать активность выталкивания легких тел из жидкостей именно самим этим телам, а не жидким средам, в которые их погружают. Все эти аберрации непосредственного восприятия представляют собой, по Башляру, типичные препятствия, тормозящие и усвоение уже известного (случай преподавания) и создание нового знания (случай исторического прогресса науки).
Объективное знание, считает Башляр, неотделимо от особой научной культуры, понимаемой им как некоторое психологическое образование, как правильное функционирование познавательных способностей, как самоконтроль познающего субъекта, его навыки и установки, нацеленные на “очищение” интеллекта, на исправление ошибок. Культурный и аффективный катарсис представляет собой необходимое условие получения объективного знания. И его задачи, как полагает Башляр в соответствии со своей концепцией динамического разума, состоят прежде всего в том, чтобы снять преграды на пути развития разума, его творческого самообновления. Специальное выявление эпистемологических препятствий, считает философ, является задачей психоанализа объективного познания.
3. Виды препятствий и их функционирование
Какие же основные препятствия для становления научной культуры рассматривает Башляр в этой работе? Это прежде всего сам первичный опыт человека, так сказать, сфера непосредственности. Затем, напротив, обобщения, но слишком легкие, лишенные строгих оснований, а также злоупотребления привычными расхожими образами, различные вербальные помехи, включая привязанность к словам. Наконец, прагматическая установка и унитаристское сознание, т.е. стремление к единствам, недостаточно обеспеченным в научном плане, а также ряд философско–онтологических установок — субстанциализм, реализм, анимизм. Кроме того, Башляр выделяет ряд факторов, препятствующих оформлению количественного подхода, как особый вид препятствий. Все эти виды препятствий существуют внутри познавательных актов и в этом плане удовлетворяют тезису об имманентности препятствия. Выдвигая этот тезис, Башляр стремится отвлечься от всех факторов, обуславливающих трудности познания, которые коренятся в самом его предмете, в его сложности, малодоступности, в его “текучести”, а также и от таких факторов, как природная слабость органов чувств человека. Перечисленные эпистемологические препятствия замедляют прогресс знания, приводят познание в состояние стагнации или замешательства и “путаницы”. Если познание — свет, то эти препятствия — тени в солнечном конусе правильного познания [55, с. 13]. Мнение, которое как помеху истинному знанию рассматривал Платон в своем “Теэтете”, Башляр также считает препятствием [там же, с. 14]. Но его подход к проблеме — другой: Башляр стремится обнаружить своего рода психологические механизмы, способствующие тому, чтобы ошибочные идеи прочно фиксировались или, как он говорит, валоризировались, т.е. получали высокую субъективную оценку. Средством, обеспечивающим такую валоризацию, служит употребительность данных идей. И если великий ученый, еще в молодости совершив свое открытие, привык к кругу идей, в котором оно было сделано, то во второй половине жизни его интеллектуальные привычки могут оказаться “консервативным инстинктом” и выступить препятствием науке в ее динамизме. Именно такие формообразования психики, как подобные “инстинкты”, и служат тем субстратом, на котором Башляр рассматривает проблему препятствия.
Изучение эпистемологических препятствий, по Башляру, возможно в двух областях — в истории науки и в практике преподавания. Сам Башляр использует обе эти сферы для конкретизации своей концепции. В известном смысле анализ преподавания и анализ становления научного духа у него сближаются. На наш взгляд, именно анализ преподавания задает образец для анализа историко–научного. Те же самые склонности и привычки интеллекта, осваивающего благодаря преподаванию современное научное знание, проявляются как препятствия и для его становления в истории. Именно поэтому препятствия всегда остаются как бы актуально действующими и если они потеснены в науке, то сохраняются в преподавании и в философии, т.е. в культуре.
Какие общие характеристики Башляр усматривает в эпистемологическом препятствии? К природе препятствия, рассуждает он, принадлежит то, что оно всегда является смешанным по составу [55, с. 21]. Реальные препятствия таковы, что в них участвуют разнообразные “ингибиторы” научного прогресса. Причем важно, что препятствия образуют своего рода полярные пары: и чрезмерная непосредственность эмпиризма и жесткий дух рациональной системы в равной мере могут быть препятствиями. Огибая одно препятствие, мысль натыкается на другое, ей противоположное. И именно этот, как говорит Башляр, “психологический закон биполярности ошибок” [55, с. 20] создает реальные трудности продвижения мысли к объективному знанию.
Другой общей чертой препятствий является часто в них обнаруживаемый момент фиксированных валоризаций, о чем мы уже говорили. Устранение такого рода препятствий состоит в девалоризации, в снятии ценностных предпочтений, не имеющих научно–объективного обоснования. Особенно часто такие препятствия встречались в процессе становления физики как научной дисциплины, и они же, в известной мере, сохраняются и в современную эпоху, по крайней мере, в сфере преподавания.
Наконец, еще одно важное обстоятельство: Башляр исключает математику из числа наук, которые развиваются, проходя через “периоды ошибок” [55, с. 22]. Ни один из тех видов препятствий, которые мы выше перечислили и анализ которых составляет содержание работы Башляра об эпистемологических препятствиях, не относится к математике, Башляр готов признать, что математика знает периоды замедления развития, но не периоды заблуждений и ошибок! На наш взгляд, математика и ее история валоризированы Башляром и эта переоценка (или идеализация) математики и ее истории представляет собой своего рода эпистемологическое препятствие для развития самой эпистемологии и истории науки. Мы не можем согласиться с Башляром, когда он говорит, что “история математики представляет собой чудо регулярности” [55, с. 22]. Не вдаваясь сейчас в обсуждение этой проблемы и не аргументируя нашего несогласия, сошлемся на книгу известного историка математики М.Клайна, в которой убедительно, как нам представляется, развивается противоположный тезис [24]. Заметим только в связи с этим, что стремление Башляра выйти за пределы априоризма, в частности, кантовского*,само оказывается ограниченным из–за этой идеализации математики. Для Башляра математика остается (как и для Канта) синонимом абсолютного знания, знания практически не–исторического, и это несмотря на то, что Башляр знает историю математики. И поэтому довольно трудно защищать Башляра от той резкой критики, которой в связи с этим его подверг Мишель Ваде. “Странное исключение, — комментирует этот текст Ваде, — указывающее на основные идеалистические априори, играющие роль философских предпосылок... Понятно, что, исходя отсюда, Башляр воспроизводит в своей концепции истории разума и наук классическую идеалистическую проблематику в новой форме” [117, с. 198].
4. Взаимосвязь разрыва и препятствия
Башляр усвоил эпистемологические уроки научного развития той эпохи, в которой он жил. Например, он четко осознал кризис методологии механических моделей, кризис наглядности в физике и химии. Химия, в частности, широко использует наглядные схемы, образы, модели. Например, атом углерода (эта схема подводит итоги многим экспериментам и теоретическим полемикам) может быть схематически изображен как тетраэдр. Тетраэдричность атома углерода выражает его стабильную четырехвалентность в большинстве его соединений, а кроме того, равноправие его валентных возможностей. Но современный химик никогда не отождествляет эту схему с самой реальностью, хотя и отдает себе отчет в том, что он пользуется ею только потому, что она не беспочвенна.
Башляр рассуждает примерно так: эпоха наглядной, фигуративной химии прошла, наступает эпоха новой, если угодно (это наше выражение, но оно нацелено на реконструкцию мысли Башляра), “алгебраической”, “не–лавуазьевской” химии, радикально порывающей с обыденным (и классическим) научным познанием. Но раз так, то ум в своей консервативной тенденции сохраняет привычки прошлой эпохи и поэтому сам же себе препятствует на пути к новому, отмеченному серией “не”. Башляр, на наш взгляд, впадает в односторонность дважды: во–первых, опережая науку и прокламируя эпоху “не”, а, во–вторых, именно в силу такого “форсинга” он компенсирует его как слишком отрывающийся от истории шаг введением консервативного “противо–тока”. Этот “противо–ток” и тематизирован в понятии препятствия. Иными словами, понятие разрыва и понятие препятствия тесно взаимосвязаны. Это — две стороны одной и той же медали:
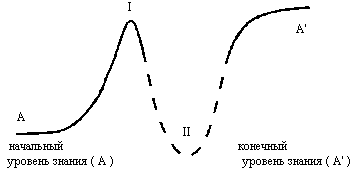
Схема № 1
Данная схема наглядно изображает эту связь: I — это препятствие, прикрывающее вход в “разрыв” (II). Препятствие и разрыв образуют, как мы скажем, эпистемологический дублет. Ни одно из них по отдельности не имеет автономного статуса и не существует само по себе. Высота препятствия коррелирует с глубиной разрыва. Сам эпистемологический дублет получен благодаря преобразованию континуальной схемы развития знания:
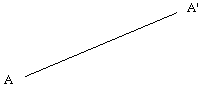
Схема № 2
Лекур отметил взаимосвязь этих основных понятий эпистемологии Башляра, но не проанализировал ее и, кроме того, проставил не–башляровский акцент у понятия препятствия. Он говорит, что препятствие возникает там, где знанию угрожает разрыв [101, с. 27–28]. Но разрыв — не угроза знанию, а способ его развития (саморазвития, как это подчеркивается у интерналиста Башляра). Но не в этом главный недостаток такой трактовки: она подменяет вполне субъективную генеалогию такого эпистемологического дублета объективной. Выше мы показали, как “пережимание” педали в сторону диктуемую “не”–установкой Башляра (список самих этих “не” внушителен и в принципе незавершен) нуждается для компенсации в симметричном жесте, приводящем к противо–“не”, к тенденции, фиксируемой как раз в понятии о препятствиях.
Этот анализ интересен тем, что позволяет увидеть механизм генезиса основных эпистемологических конструктов Башляра. Он состоит в том, что отказ от континуализма и попытка мыслить дисконтинуальность развития знания приводит к тому, что единичные понятия превращаются в пары или дублеты. В результате происходит “диалектизация” мышления, пытающегося схватить историю, аппроксимируемую как дисконтинуальный, дискретный процесс. При этом мы обнаруживаем удивительное сходство между современной физикой с ее переходом к онтологии возможности (и становления), порождающей дополнительность (дуализм волны–частицы), и современной эпистемологией, стремящейся постичь историю знания с ее дискретностью, дисконтинуальностью. В обоих случаях происходит “диалектизация” познавательных средств; ситуации в обоих случаях обнаруживают изоморфизм, кстати, не случайный, так как именно усвоение опыта новой науки (и квантовой физики прежде всего) дало толчок и новой эпистемологии.
Есть еще один аспект взаимосвязи понятий разрыва и препятствия. Согласно Башляру, существует разрыв между обыденным и научным познанием, между классической наукой и современной. Но препятствия беспрепятственно (просим прощения за невольный каламбур) “пересекают” эти разрывы. Понятно, что разрывов, конечно, не два (выше мы назвали только самые крупные). Их — неопределенное множество, если следовать логике эпистемологического мышления Башляра. Любое “не” есть обнаружение разрыва: между химией Лавуазье и современной не–лавуазьевской химией, между аристотелевской и не–аристотелевской логикой, между Френелем и Ньютоном в оптике, между Ньютоном и Эйнштейном в механике и т.п. Каждый разрыв для знания есть непрерывность для препятствия. Действительно, ментальность, соответствующая лавуазьевской химии, свободно преодолевает разрыв между химией Лавуазье и новой химией и именно поэтому можно говорить о препятствиях новой химии (проблема, которую Башляр рассматривает в различных местах, особенно в своей последней эпистемологической работе [60]). Точно так же склонность к механическим моделям, привычка мыслить микромир так, как мы мыслим макромир, беспрепятственно проникают за грань разрыва между классической физикой и новой физикой квантов, образуя препятствия для понимания последней. Препятствие и преодолевается и сохраняется одновременно. Если бы оно только преодолевалось, то оно и не было бы препятствием, так как оно действует как препятствие там, где его содержательный состав расходится с “новым научным духом”, как бы конкретно он ни определялся. В конце концов, препятствие у Башляра — не столько конкретно–историческое понятие, сколько эпистемологический оператор: и мышление Галилея по отношению к динамике Аристотеля можно (мы реконструируем мышление Башляра) рассматривать как проявление “нового научного духа”, и мышление Эйнштейна в механике относительности выступает как свидетельство “нового научного духа” по отношению к механике Галилея.
В связи с обсуждением понятия эпистемологического препятствия нам бы хотелось сделать одно замечание. Научное познание несомненно резко отличается от донаучного, между миром обыденного сознания и миром научного сознания существует разрыв. Башляр, однако, не удовлетворяется такой констатацией. Вводя в свой эпистемологический багаж понятие препятствия, он придает взаимоотношениям научного и обыденного познания характер активного противоборства, описывая их отношения в “военных” терминах, на языке стратегии борьбы за выживание, которому, как будто бы, они взаимно угрожают. Так, говоря о препятствиях, Башляр использует такие выражения как “блокировка". Например, рассматривая исторически первое значение понятия “масса”, связанное с представлением непосредственного познания (масса оценивается по размеру и как интенсивность, но при этом не достигается уровень ее рассмотрения как универсального свойства, измеряемого, например, весами), он говорит, что оно “блокирует познание, а не резюмирует его” [56, с. 23]. Препятствие (здесь употребляется выражение “понятие–препятствие”) действует активно против научных значений данного понятия. Подобную “стратегическую” терминологию в эпистемологии мы найдем и у Мишеля Фуко, у которого она получит и достаточно ясный философско–социологический базис, отсутствующий у Башляра с его психологией и педагогикой разума.
На наш взгляд, утверждение об анти–научной активности препятствий является слишком “сильным” — фактически оно не доказывается Башляром. Язык “препятствий”, как и язык “разрывов”, есть, несомненно, тоже метафорический язык и поэтому сам несет в себе потенции препятствия, в данном случае препятствия для формирования научной эпистемологии. Как проверяются все эти эпистемологические понятия–метафоры? У Башляра они верифицируются его опытом преподавателя естественных наук и эпистемолога, занимающегося историей современной науки. Именно в этих сферах лежит зона их верифицируемости и фальсифицируемости, соответственно. Башляр, видимо, считает, что анимистские ассоциации, связанные с термином массы, активно блокируют образование научных значений этого термина. Мы так не считаем. В самом деле, каждое научное понятие имеет достаточно широкую зону своих околонаучных и не–научных значений и их наличие еще не означает, что они активно препятствуют тому, чтобы к их числу добавились новые, так сказать, подлинно научные значения. Ведь научное значение прежде всего системно, оно научно именно в силу своей специфической системности, базирующейся на целостном рационально–экспериментальном комплексе. Но раз дана система, раз она освоена, то понятие функционирует как ее член, как часть особого системного контекста и поэтому никакой активной блокады внесистемными значениями быть не может. Ну, например, как анимизм или попросту такая страсть, как жадность, вносящие, по Башляру, свой вклад в первичные значения массы, могут помешать мыслить массу как коэффициент пропорциональности между силой и ускорением в механике Ньютона? Полисемантизм еще не означает своего рода гоббсовой “войны всех против всех”. Разные значения одного слова вполне могут мирно сосуществовать уже в силу полисистемности, поликонтекстуальности значений данного термина.
Мы выразили наше сомнение в активности препятствия, проверяя этот тезис Башляра нашим пониманием связи научного и не–научного в мире психологии познающего субъекта. Но такого же рода возражение возникает и при обращении к истории науки. Действительно, были ли анимистические, унификаторские, субстанциалистские и другие подобные интенции и даже учения XVII–XVIII вв. активным препятствием науке? Или же просто в эту эпоху додисциплинарного знания существовало большое многообразие не–научных и около–научных значений различных понятий? И разве нельзя себе представить, что это многообразие вовсе не мешало тому, чтобы Ньютон стал Ньютоном, а Бернулли — Бернулли? Конечно, соседство такого многообразия с формирующимся научным единообразием оставляет свой след на науке Ньютона и Бернулли и не может быть обойдено в анализе историка (теологические увлечения Ньютона, кстати, связаны с его наукой не только негативно, как это следует из башляровской концепции, но и позитивно). Однако мы вовсе не можем априори, как это делает Башляр, утверждать, что подобное многообразие значений активно блокирует формирование понятийных научных систем. Конечно, наука, чтобы сложиться как социальный институт со строгой когнитивной и нормативно–практической дисциплиной, с четкой демаркацией “наука — не–наука”, должна была обрести автономию, отделиться от этого многообразия, выделиться из этой аморфной среды, из, так сказать, маточного раствора своей около–научной сферы. Наука XVII–XVIII вв. (речь идет в первую очередь о науках физического цикла, включая и химию) не обрела еще строгих стандартов, не “доросла” до институциализованного в научном сообществе производства объективного знания. Иными словами, частная линия развития, линия научно–объективных значений, не была еще закреплена и превращена во всеобщую. Это будет сделано вместе с созданием канонических учебников (например, курс физики Био, вышедший в начале XIX в.), с профессионализацией исследований, что сопровождается созданием специальных журналов, установлением нормативов научной работы, контроля за их соблюдением, созданием специальных программ исследования и обучения и т.п.
Таким образом, реальным предметом анализов Башляра выступает не столько личная мораль или индивидуальная психология, сколько, напротив, коллективная социальная массовидная деятельность по производству объективного знания. Действительно, примеры, приводимые Башляром, его скрупулезный анализ ныне вовсе забытых имен указывают на то, что он фактически исследует среднюю массу ученых XVIII в., действующих в характерной атмосфере светского салона с его увлечением наукой, “странными” явлениями природы. Башляр, рассматривая историю науки XVIII века, как бы проходит мимо научных достижений этой эпохи, не замечая подлинных творцов научного знания. По сути дела, здесь в своеобразной форме реализовалась программа историографии, намеченная еще в 1927 г.: исследовать не историю “королей истины” (Ньютона, Бернулли, Эйлера, Лапласа и др.), а историю “масс”, заблуждающихся и приближающихся в лице отдельных их представителей к истине. И наш тезис, выражающий сомнение в концепции препятствия как активной противо–научной силы, состоит в том, что все эти ныне забытые авторы вряд ли активно мешали движению знания (например, Бернулли в создании гидродинамики или Лапласу в его исследованиях по небесной механике). Просто, когда возникла нормированная наука в профессиональных сообществах с жесткими демаркациями и дисциплиной, тогда эта светская ученость эрудитов была оттеснена на периферию научного знания, как и романтическая натурфилософия.
Преодоление препятствия совершается, по Башляру, на основе математического конструирования, базирующегося не на общем, а на необходимом. “Необходимость, — подчеркивает философ, — обосновывает общее, но обратное отношение само по себе не проходит” [47, с. 161]. И попутно Башляр развивает свою концепцию математической физики, давая решение такой острой и по сегодняшний день проблемы как проблема “непостижимой эффективности математики в естественных науках” [7, с. 182], причем эти его рассуждению образуют, можно сказать, ядро его концепции. Казалось бы, анализируя эти проблемы, мы покидаем наше рассмотрение понятия эпистемологического препятствия. Однако это не так. Между до–математической физикой светских салонов и эрудитов, физикой флогистона, электрического флюида и других субстанций подобного рода, с одной стороны, и математической физикой Фурье, Пуассона, Ламе, Максвелла и др. ученых XIX века, с другой, лежит разрыв, защищенный эпистемологическим препятствием. По одну сторону этого разрыва — эмпирический анализ вместе с легковесными генерализациями субстанциалистских теорий, а по другую — эффективный, математически оформленный рациональный синтез. История научной физики, как ее понимает и реконструирует Башляр, и есть прежде всего именно этот разрыв и вместе с тем преодоление соответствующего ему эпистемологического препятствия. Иными словами, дублет “разрыв–препятствие” — “атом” историко–научного анализа, предельная конструкция как эффективного историко–научного “шага”, так и научного прогресса вообще. Этот дублет можно подвергать критике с чисто исторических позиций, обращая внимание на то, что в исторической реальности нет таких объектов как “разрыв” и “препятствие”, что это все — конструкты эпистемолога, навязываемые им истории. И это не совсем несправедливо. Действительно, никакой натуралистически истолкованной исторической реальности эти конструкты, взятые порозь, изолированно, не соответствуют, но взятые в паре, в дублете, они как понятия–символы, понятия–метафоры служат средствами описания динамики познания.
Существенно, что эта динамика синтезирует в себе и историческое и эпистемологическое измерения. Другими словами, если в кумулятивизме и континуализме (т.е. в традиционной историографии) молчаливо подразумевалось, что разум, его механизмы схватывания мира в научном представлении являются неизменными, а изменяется фактически лишь объем знаний (кумулятивное накопление), то в концепции Башляра подчеркивается, что в ходе истории познания меняется сам познающий разум, происходит смена его принципов, самых фундаментальных ориентаций. Так, позиция эмпирического анализа уступает место позиции рационального синтеза. Иными словами, историческое время властно не только над количеством научного потенциала, но и над качеством его философских установок и методологических принципов. И именно эта историческая динамика философско–методологических основ знания попадает в центр внимания эпистемологии Башляра. Последняя потому и получила наименование исторической, что выявляет именно исторические формы философско–методологических основ знания (его, так сказать, эпистемологические программы). Однако это “удвоение” исторического плана, обнаружение в нем эпистемологической подосновы чревато угрозой самому историзму — угрозой “снять” беспредельное богатство истории, устранить ее “чудо”, сведя его к схематизму ее эпистемологической подосновы. Если выразить эту опасность в привычных нам терминах, то можно сказать, что речь идет об опасности чрезмерной логизации исторического. Такая угроза во многом действительно реализовалась. Пределы башляровской эпистемологии в плане ее историографических возможностей обнаруживаются в таких направлениях современной историографии, как “кейз стадиз”, в своей методологии идущих наперекор презентизму с его логическим упрощением истории, который характерен для башляровской концепции.
Однако мы были бы неправы в своем указании на пределы башляровской концепции, не обратив тут же внимания на позитивные возможности для историко–научных исследований, открытые исторической эпистемологией вообще и понятиями разрыва и препятствия, в частности. То “расслоение” поля исторического анализа науки, о котором мы только что сказали, несет в себе огромные возможности в плане преодоления эмпиризма и фактографизма в историографии, за которыми скрываются все те же догмы кумулятивизма и континуализма, как правило, критически не осознаваемые историком–эмпириком. Несомненно, что анализ эпистемологического измерения истории научного познания в системной связи с анализом других ее измерений, включая и так называемые внешние факторы, открывает новые возможности именно для углубления и обогащения историзма, для продвижения истории науки и теории ее развития к новым рубежам.
Подведем итоги. Мы подчеркнули связь в плане эволюции эпистемологии Башляра между понятиями ошибки и ее исправления, с одной стороны, и понятиями эпистемологического препятствия и его преодоления, с другой. Характерно, что у Башляра нет полного совпадения между этими двумя парами понятий: если в его ранних работах, где много говорится об ошибках и их исправлениях, почти ничего не говорится о препятствиях, то в последующих работах на первый план, напротив, выступает понятие препятствия, хотя ошибка и исправление и остаются в словаре эпистемолога. Такой режим употребления этих понятий говорит нам о том, что при всей их близости (их можно рассматривать как понятия–спутники) их значения не совпадают. В чем же различие этих значений? Понятия ошибки и исправления употребляются в контексте обсуждения внутренней “жизни” научного разума, по крайней мере, в большинстве случаев. Ошибка и ее исправление — чисто внутринаучная процедура. Понятие же препятствия и его преодоления сопоставлено с понятием “культура”: преодоление препятствий рассматривается Башляром как путь к научной культуре. Так, например, говоря об анимистическом значении понятия массы, Башляр указывает: “Ум, принимая такое понятие, не может достичь научной культуры” [56, с. 24].
Другое отличие состоит в том, что ошибки рассматривались Башляром как исправляемые благодаря прогрессу измерительной техники, уточнению методов и совершенствованию теорий. Преодоление же препятствий, начиная с фундаментальной работы 1938 г. [55], связывается Башляром с проведением психоанализа субъекта науки, с выявлением его подсознательных установок, фиксаций, предпочтений, со снятием неоправданных валоризаций, имеющих свои корни не в исследуемом объекте и его “вещной” логике, а в страстях человеческой души, в мире ее бессознательного. Одновременно с выступлением на передний план психологизма приходит и педагогизм, по сути дела лежащий в основе анализа препятствий. И понятие культуры, которое мы упомянули, приобретает у Башляра черты психо–педагогического своего истолкования. Объективное познание, по Башляру, задано морально–психологически, это для него некое состояние ума и души человека. Такое состояние становится устойчивым лишь в определенных условиях воспитания и обучения, когда происходит успокоение души, усмирение страстей, освобождение душевной активности от подсознательных импульсов. “Если хотят измерить препятствия, которые противостоят объективному, спокойному познанию — говорит Башляр, — то нужно рассматривать всего человека вместе со всем грузом его наследственности (ancestralité), его бессознательного, со всей его молодостью, импульсивной и полной случайностей” [55, с. 209]. И тут же Башляр бросает упрек преподавателям, что они почти ничего не делают для того, чтобы привести своих учащихся в состояние спокойствия, без которого нет объективного познания. Замысел своего психоанализа он как раз и адресует ко всем педагогам с тем, чтобы восполнить этот пробел.
5. Философия как эпистемологическое
препятствие
Обращение Башляра к психологии явилось прежде всего следствием его отталкивания от философии, которая рассматривается им как эпистемологическое препятствие. Как действует философия как препятствие, каков механизм торможения науки философией? Рассмотрим один только пример. Мы говорили, что поток познания у Башляра обнаружил свою глубину, свое эпистемологическое и даже философское измерение. Этот подслой познания не является, согласно Башляру, однородным: наука не имеет какой–то одной, привилегированной философии. Научному познанию, подчеркивает Башляр, соответствует своего рода “полифилософизм”. “Мы будем настаивать на том, — говорит Башляр, — чтобы философы порвали с претензией отыскать одну–единственную и неизменную точку зрения для того, чтобы судить такой широкий и такой изменчивый ансамбль знаний, как физика. Мы придем, таким образом, к тому, чтобы характеризовать философию наук как философский плюрализм, который лишь один способен осмыслить столь разнообразные элементы опыта и теории, столь разноудаленные от одной степени философской зрелости” [56, с. 12]. В соответствии с этим подходом Башляр разработал представление об эпистемологическом профиле научного понятия, указывающем на то, с каким же именно “статистическим весом” входит каждая из философских точек зрения (из набора релевантных для объяснения естествознания философских позиций) в этот фундирующий научное знание подслой. Причем он показал, что эти “веса” изменчивы, так что имеет смысл говорить о динамике структуры философского фундамента понятий науки. Возвращаясь теперь к вопросу о механизме “работы” философии как препятствия, мы должны заметить, что он во многом, по мысли Башляра, сводится к тому, что философия в своей претензии на монополизм снимает “полифилософизм”: философия становится эпистемологическим препятствием, когда она устраняет гетерогенность эпистемологического профиля, приводит к монотонии его полиморфность.
Так, например, научное познание, подчеркивает Башляр, все время колеблется между рационализмом и эмпиризмом, реализмом и номинализмом. И если философия стремится устранить один из полюсов этой осцилляции, то она тем самым становится препятствием развитию научного познания. “Это чередование (философских позиций — вст. наша — В.В.), — говорит Башляр, — более, чем просто факт. Оно — необходимость психологического динамизма. Поэтому всякая философия, блокирующая культуру в реализме или в номинализме, образует препятствия, причем одни из самых грозных, для эволюции научной мысли” [55, с. 246]. А так как философии практически всегда стремятся к монополии, то Башляр отворачивается от философий, которые были в то время в поле его зрения в качестве претендентов на осмысление науки, и устремляется к психологии. Сами категории “истины”, “ошибки”, “исправления ошибки” — все эти категории для него выступают как психологические. “Психологически, — говорит он, — нет истины без исправления ошибки” [там же, с. 239]. “Психология объективной установки, — продолжает Башляр, — есть история наших личных заблуждений” [55, с. 239]. Но, убегая “от огня”, Башляр попадает в “полымя”: его психологизм как панацея от философии как препятствия научному познанию сам оказывается препятствием на пути осмысления науки. Ситуация здесь воспроизводит ту же фигуру, что и весь его осуждающий моральный пафос, обращенный на мифы, на алхимию, флогистику, выступающие прежде всего как моральные установки: тот “сюррационализм”, который он проповедует, выступает сам как моральная позиция. Ничего кроме интуиции необходимости динамизации интеллекта и психики перед лицом вызова научного развития за этими декларациями о “новом научном духе”, о “сюррационализме” и т.п. не стоит. Жизненные ценности, по Башляру, статичны и поэтому они должны потесниться и дать больше места для ценностей рациональных, интеллектуальных, духовных, которые гораздо динамичнее и поэтому более адекватны духу великих перемен, под знаком которых стоит человечество в XX в. И если сама биология человека, сам его мозг наделен инерцией, консерватизмом, то надо мыслить вопреки, “против мозга” [55, с. 251], который сам становится препятствием на этом витке развития человечества, требующем растущей динамизации. Мышление, по Башляру, всегда есть “работа вопреки”, мышление–против. Сначала оно направлено против непосредственного рефлекса, затем против противника рефлекса, т.е. против самой рефлексии (по крайней мере, в ее первичной форме). Так происходит нарастание этой обращенности мысли на себя, углубление борьбы интеллекта с самим собой за новое, более динамическое движение вперед. Это — нелинейно нарастающее развитие, своего рода нелинейная “ноогенизация” человечества, да и природы вообще*.
Все эти обобщения стоят за кадром эксплицитных рассуждений философа, но они точно, на наш взгляд, выражают его центральные интуиции и стремления, осознавая которые, мы действительно можем разобраться в его историографической позиции и эпистемологии, в его понятиях разрыва и препятствия. И самую сердцевину препятствий объективному познанию, как их понимает Башляр, составляет витальная связность духа, зависимость интеллекта от жизненных интересов. Замысел “психоанализа объективного познания” состоит как раз в том, чтобы способствовать освобождению ума от этой “вязкой” витальной сферы. И, конечно, для такого преодоления нужна “воля к объективному познанию”, представляющая собой, в конечном счете, квинтэссенцию воли к жизни. Так эпистемология Башляра обнаруживает свои философские предпосылки, основные онтологические интуиции.
Способом преодоления препятствий в романтическом рационализме Башляра выступает их осознание, выявление или разоблачение. На наш взгляд, этот режим интеллектуальной аскезы, объективного познания как своего рода добровольной схимы культурологически можно пояснить, обращаясь к модели мышления и поведения гностика с его религиозно–экстатическим отношением к знанию (гнозису). Мы имеет в виду условный культурологический изоморфизм, проводимый до определенных границ между башлярдизмом и гностицизмом, отдавая себе отчет в том, что за этими пределами сходство быстро кончается и сциентизм Башляра становится антиподом мистицизма гностиков.
Стремясь преодолеть современную ему философию как препятствие науке, Башляр, тем не менее, остается в ее пределах. Так, например, типичная для некоторых течений в философии 20–х годов (философия жизни Людвига Клагеса и др.) антитеза “жизнь — дух” воспроизведена и положена в основу философского каркаса всего мышления Башляра. Только в отличие от философов жизни и экзистенциалистов он выбирает в качестве первопринципа не “жизнь”, а ее вечного оппонента — дух. И здесь мы не можем не видеть, что как бы украдкой (вспомним, что от этой философии Башляр стремился уйти) он возвращается на родную ему почву французского рационализма.
Как заметили Лекур и Кангилем, понятие философии как эпистемологического препятствия функционирует у Башляра в смысле идеологии. Идеология как искаженное или превращенное осознание человеком своего бытия действительно может, условно говоря, рассматриваться как препятствие объективному познанию. И когда Башляр говорит, что “все вопросы умолкают в лоне широкого Weltanschauung” [55, с. 83], то, конечно, здесь мы имеем дело с мировоззрением как идеологией, маскирующей проблематичную реальность, открытую в своей вопросительности науке. Метод Башляра сближает его, однако, не с Марксом, который ищет разоблачения идеологических форм сознания посредством анализа практической деятельности, а с Фрейдом, при всех оговорках о слабой рецепции фрейдизма эпистемологом. Действительно, за такой единственной “врожденной философией” как реализм, являющейся мощным препятствием объективному научному духу, стоит, по мысли Башляра, инстинкт скупости: “В своей наивной форме, в своей аффективной форме убежденность реалиста проистекает из радости скупца” [55, с. 131]. Конечно, шокирующий эффект этого утверждения понятен Башляру, и он сам признает, что его “покоробила” такая гипотеза в начале его изысканий относительно практики реализма в алхимии и в преподавании. Но глубокое изучение обширной преднаучной литературы, главным образом, алхимической, с одной стороны, а с другой, внимательное анкетирование студентов, изучающих современную науку, привели философа к убеждению, что реализм в своих скрытых психологических основах есть именно “инстинкт” и что его осознание требует специального психоанализа, ведущего к обнаружению в качестве базы этого “инстинкта” некоторого изначального “жеста” ориентации человека (а, может быть, и живого существа вообще) в материальном мире. Понятно, что реализм как “инстинкт” снимает вопросительность научных проблем, тормозит даже их постановку. Реализм выступает как интенция превращать свои субъективные предпочтения, оценки, впечатления в субстанции, в “реальности”, снимая тем самым необходимость их социального и когнитивного контроля, избегая рациональной дискуссии по их поводу: “реальность” не обсуждается! Так возникает квази–реальность, являющаяся зеркалом чисто субъективных мнений и впечатлений.
Примером может служить оценка противоположных свойств воды ("мягкость” и “твердость”) Бургаве и Птом в качестве ее существенных атрибутов. Очевидно, что уже элементарная рациональная дискуссия, считает Башляр, разоблачила бы оба эти утверждения, показав их взаимную несовместимость, логическую несостоятельность, являющуюся индикатором субъективизма. Однако, на наш взгляд, позиции ученых преднаучной эры вовсе не являются просто субъективными мнениями, питаемыми их личным, случайным опытом. Они выражают собой общественный когнитивный опыт, но, разумеется, не тот, который связан с дисциплинаризированным научным естествознанием. Именно этого, существенного для историка момента, Башляр не замечает.
6. Эпистемологические препятствия
в истории науки
В представлении об эпистемологическом препятствии у Башляра тематизированы самые разные проблемы, возникающие на разных уровнях рефлексии науки. На наш взгляд, у него оказались не расчлененными следующие два момента: во–первых, преграды на пути решения новых проблем, препятствующие созданию новых теорий, выдвижению эффективных, преобразующих знание гипотез, а, во–вторых, преграды на пути восприятия и усвоения новых теорий, открытий, трудности их педагогизации. В классическом вузовском курсе атомной физики читаем: “Хорошо известно, что главная трудность для начинающего изучение квантовой физики — не в математике, а в самом существе предмета: в крайнем своеобразии законов явлений, протекающих в микроскопических системах, в их необычности и отсутствии наглядности” [43, с. 12]. Именно такого рода трудности и превращены в эпистемологические препятствия у Башляра. “Если рационализм должен быть применен к новой проблеме, — говорит Башляр, — то старые препятствия культуре не замедлят обнаружиться” [58, с. 15]. “Ученическая” трудность усвоения и восприятия превращена в преграду на пути творческого синтеза. На наш взгляд, такое смешение (пусть, даже частичное) только ослабляет эвристические и конструктивные возможности, которые, безусловно, содержатся в понятии эпистемологического препятствия, введенного Башляром. В последние годы в историографии науки произошла высокой степени специализация и концептуальный аппарат исследования восприятий научных открытий существенно отличается от тех понятий, с помощью которых анализируется творческий процесс в науке. Башляр фактически ни разу не показал, как его препятствия препятствуют конкретному научному открытию. Он показал, как философский догматизм сужает поле интерпретаций науки, как склонность к образам и легковесным обобщениям может заслонять научные смыслы понятий в процессе их восприятия и усвоения, как, в конце концов, наряду с объективным знанием о явлениях природы может существовать — и пользоваться успехом — квазизнание, которое, однако, как мы уже сказали, вряд ли может считаться активным препятствием на пути к объективному знанию. Действительно, Бертолон, аббат–эрудит, не мешал открытиям Вольта. Однако ученые типа Вольта действительно преодолевали препятствия, создаваемые, негативно выражаясь, слабостью институализации научного естествознания в XVIII в.
Сама по себе расплывчатость норм (ситуация в физических науках в XVIII в.) не может служить препятствием для тех исследований, которые полвека спустя станут образцами научной деятельности. Свободное соседствование будущего с прошлым — типичная ситуация для науки XVIII в. на пороге ее нормализации и дисциплинаризации. И само по себе такое сосуществование еще не означает, что ученость эрудитов практически мешала открытиям в сфере того, что потом получит название “объективного знания” или “науки” в отличие от “учености”. Эклектика и нормативная аморфность, повторим, не преграда для ригористов, для тех, кто строго придерживается каких–то четко определенных принципов. Скорее даже, наоборот, в атмосфере нормативной аморфности они, ригористы ума, только и могут возникнуть и социально выжить.
Понятие препятствия — понятие эпистемолога, а не историка. Так понимает его Башляр. “История, — говорит он, — в принципе враждебна всякому нормативному суждению. Но, тем не менее, надо встать на нормативную точку зрения, если хотят судить об эффективности мышления” [55, с. 17]. Однако историк осознает, что само понятие эффективности является понятием современного научного мышления и поэтому в подходе к прошлому мышлению с точки зрения его эффективности нельзя не обнаружить проекции на него именно современного состояния науки и культуры. Иными словами, обращение Башляра к необходимости оценки прошлого знания ради установления меры его эффективности обнаруживает его презентистскую позицию по отношению к истории. Современные способы решения одной и той же задачи вполне естественно оценивать на основании их эффективности. Однако по отношению к прошлому такой подход уже проблематичен. Он имеет смысл только в том случае, если в сегодняшнем мышлении актуально “работает” вся прошлая история, так что то не–эффективное, что Башляр отсеивает своим нормализаторским взглядом в истории, представляет собой не столько “прошлое”, т.е. то, что было, и чего, следовательно, нет сейчас, сколько настоящее, действующее и по сей день. И именно так и считает Башляр, основную часть своих примеров не–эффективного знания или знания–препятствия (такое понятие вполне в духе эпистемологии Башляра, употребляющего такой термин, как “понятие–препятствие”) берущий, пожалуй, даже не из нормативистски судимой истории, а из ошибок студентов и трудностей, которые встречаются при преподавании современного научного знания.
Позиция Башляра–эпистемолога такова: научный “логос” всегда “рождается” из “мифа”, преодолевая его как препятствие для своего становления. Битва за объективное знание (науку), начатая в XVI–XVIII вв. (может быть, и гораздо раньше, так как научная рациональность, по Башляру, существует всегда как “нормализация”, как “исправление”, как “оценка”) продолжается и в XX в. И как ни странно, но стабильным препятствием научному мышлению служит сфера витальности непосредственного опыта, полезностей жизни и устойчивых инстинктов вместе с... философией! Наука не понимается, считает эпистемолог (и более того, не просто не понимается, но вытесняется, блокируется), одновременно двумя такими различными сферами деятельности, как обыденная жизнь и философское умозрение.
История в ее историчности (предмет истории историков), по Башляру, содержит в себе много такого, что совсем не служит эффективной эволюции научной мысли, а “некоторые познания, — говорит он, — даже истинные, слишком рано останавливают полезные исследования” [55, с. 17]. Мысль о том, что даже истинные познания могут выступать как препятствия и тормозить продвижение исследований, представляет интерес для истории науки. Развитие этой мысли мы найдем у такого ученика Башляра, как Кангилем*.
На наш взгляд, напряженность отношений между историей и эпистемологией служит динамизирующим фактором для развития исследований науки в целом. Эпистемологический уровень анализа науки выступает как уровень “второй производной” рефлексии науки по отношению к истории. Однако связь истории и эпистемологии — не просто в смене уровня, но и в смене самой позиции рефлексии, о чем мы уже говорили. При анализе проблемы препятствия важно подчеркнуть, что сама концепция препятствия конституируется на уровне эпистемологии. “Факт, плохо понятый эпохой, — говорит Башляр, — остается фактом для историка. Но для эпистемолога, это — препятствие, контр–мышление” [55, с. 17]. Точкой отсчета эпистемолога выступает система современного научного знания, задающая нормы, с помощью которых эпистемолог, обращаясь к истории, судит ее. Само обращение эпистемолога к истории нужно, как мы сказали, для оценки эффективности исторических форм знания, для представления его истории как прогресса познания, роста знания. Идея прогресса неминуемо должна вывести эпистемолога на идею препятствия: ведь препятствие есть анти–прогресс или “реакция” в сфере мысли.
Зафиксируем этот план эпистемологии Башляра с тем, чтобы лучше понять те пути преобразования эпистемологической и историографической мысли, которые будут происходить во Франции после смерти философа. Башляровское понятие препятствия не исчезает, но преобразуется в такие понятия, как “идеология”*, как “порог” (Фуко [84]) и т.п. Что же касается темы мифа и логоса, рациональности и ее оппонента, то она будет разыграна в иной тональности у Мишеля Серра [115]. И уже у Фуко произойдет смещение системы отсчета: рациональность, типичная для западной цивилизации, будет проанализирована как бы со стороны, с “ничейной” полосы между разумом и “неразумием” [87]. Иными словами, после Башляра и под влиянием его импульса эпистемология будет удаляться от традиционного идеала рационализма все дальше и дальше, стремясь вернуть оппонентам рациональности (мифу, воображению, метафоре и т.п.) долю их прав, если и не полное господство над их могущественным властелином.
Башляр, считает, что существуют разные типы ментальности (пред–научная — mentalité préscientifique — и научная, представляющие целостные формообразования) и что между ними — разрыв или лакуна. Именно поэтому пред–научная ментальность описывается как препятствие для научной. Но Башляр не только описал эти типы ментальности, но и полностью подчинил пред–научную ментальность научной в своей шкале валоризаций. Пред–научная ментальность рассматривается исключительно как синоним препятствия. В эпистемологический абсолют — истину — она ничего не вносит. Более того, истина возникает за счет устранения из науки пред–научной ментальности. Такая нормативная презентистская эпистемология неизбежно вступает в конфликт с историзмом. Ведь сама преднаучная ментальность амбивалентна даже по отношению к ее связям с ментальностью научной. Богатство этих связей упускается из виду Башляром, поскольку все они оказываются связями препятствия.
Рассмотрим в связи с этим один пример. Одним из основных препятствий Башляр считает субстанциализацию качеств. Например, для объяснения сухости воздуха ищется субстанция сухости, ее носитель. Карра в конце XVIII в. предположил, что такой субстанцией могут быть пары серы [55, с. 108–109]. Квалитативистское мышление, представленное в таком подходе, имеет долгую историю. Его самым влиятельным представителем был Аристотель. Качества образуют оппозиции (например, сухое — влажное и т.п.) и для такого мышления оба ее члена равноправны между собой и оба могут субстанциализироваться. Мышление Нового времени, вытеснившее перипатетико–схоластический подход, нашло более “экономный” способ мыслить: один из полюсов качественной оппозиции может быть истолкован как недостаток другого. В конце концов, качественные различия стали объяснять градациями в количестве некоторой первосубстанции.
С этим субстанциалистско–квалитативистским подходом связан и иной, чем в ментальности Нового времени, подход к определению существенности качеств. Например, Бургаве рассматривал такое качество воды как “мягкость” (douceur), включающее также свойство быть пригодной для питья, как ее существенное свойство. “Потребность в субстанциализации качеств, — говорит Башляр, комментируя эту позицию Бургаве, — столь велика, что всецело метафорические качества могут быть приняты за существенные” [55, с. 109]. Бургаве приводит множество примеров, служащих эмпирической базой для такого выбора: это и вымывание водой солей и всех острых, терпких, едких субстанций, это и употребление воды как средства выщелачивания веществ, в том числе ядовитых, это и безопасное, “мягкое” воздействие воды на человека и т.п. [70, с. 586]. Конечно, скороспелое обобщение эмпирии может оказаться противоречивым потому, что существенными для одного вещества могут считаться противоположные качества. И действительно, с поведением той же воды Ж.–А.Пот связывает такие явления, как разрушение ею камней, причиняющий сильную боль удар по воде человеческого тела и т.п., которые он обобщает и субстанциализирует как “твердость” [55, с. 110]. К подобному мышлению Башляр относится с насмешкой, небрежно бросая, что пустота и бесплодность его столь очевидны, что их не нужно и доказывать. Однако, на наш взгляд, здесь для эпистемолога–историка есть немало интересных проблем для анализа.
Конечно, легко сказать, что здесь мы имеем дело с докоперниканской наукой: нужна, мол, новая система отсчета для описания физико–химических явлений, а именно не человек, а их, явлений, собственные объективные связи должны быть ее центром. Аналогом коперниканского переворота в химии может служить революция Лавуазье, поставившая критерием суждений об опыте точные количественные измерения. Башляр не замечает, что при всей структурной симметрии позиций Бургаве и Пота между ними существует и известное эпистемологическое различие. Действительно, Пот выбирает в качестве существенных механические свойства воды, а Бургаве — химические и физико–химические. Очевидно, что позиция Бургаве более обоснована: механические свойства на таком уровне их представления менее специфичны, чем химические, среди которых голландский химик правильно фиксирует то, что вода является эффективным растворителем. Но дело не в этой оценке, исходящей из презентистской установки и демонстрирующей как раз эпистемологический, в духе Башляра, подход к истории. Дело в том, что XVIII в. (как и века до него) имел свою концепцию существенности качества, отличную от научной концепции XIX–XX вв. Эта концепция исходила из рассмотрения природы через призму человека, рассматриваемого как ее фокус. Если угодно, это естествознание было непосредственно гуманистическим. Человек выступал мерой природных явлений. И этот непосредственный гуманизм квалитативистского природознания вдруг становится и интересным и актуальным (правда, скорее в своей целевой установке, чем в методах) в XX веке, чего не замечает Башляр, ничего позитивного не находящий в преднаучной ментальности.
Понятие препятствия послужило к расширению представлений о связях между различными науками и сферами культуры в целом. Обычно до Башляра, да и во многом после него, историки искали позитивные влияния одной сферы культуры на другую, одной науки на смежную. Но редко изучаются “тормозные” эффекты таких взаимодействий, когда осуществление научной программы, сформированной на базе одной науки, переносится в другую, “природа” которой с ней плохо совместима. Башляр показал негативное воздействие философских мировоззрений на развитие научной ментальности. При этом он не избежал ни противоречий, ни односторонностей. Действительно, разоблачая философию как препятствие, он сам остается в пределах философии и ищет просто новой философии, адекватной современной науке. Точно так же он прошел мимо позитивных вкладов философии в научное развитие, что имело место и в прошлом и в развитии современной науки. Однако развитая им концепция не лишается смысла из–за этого. Как в разоблачении философских и мировоззренческих генерализаций как тормоза конкретных научных исследований, так и в своем радикальном прогрессизме Башляр стоит на почве контовской традиции. Конечно, Башляр от многих позиций Конта отказался, но те новшества, которые он ввел (антииндуктивизм, роль теоретической конструкции в структуре знания, дисконтинуальность в истории науки), функционируют у него вместе с некоторыми сохранившимися фундаментальными установками контизма. Среди них нужно отметить жесткое противопоставление научной истины и пред–научных заблуждений, а также несколько видоизмененную, по сравнению с Контом, трехстадийную схему прогрессивного движения разума, и, наконец, своеобразный сциентоцентризм, подчиняющий все формы культуры ценностям объективного научного познания.
7. Противоречия и пределы концепции
эпистемологического препятствия
Теория эпистемологических препятствий Башляра, как можно было видеть, содержит немало противоречий. Она стремится разоблачить валоризации, которые “налипают” в процессе познания на научные понятия, методы и теории. Но сам проект освобождения познания от субъективизма страдает все тем же субъективизмом! Действительно, по Башляру, объективность выступает как своего рода правильная мораль, как субъективное качество исследователя, как его психологическая манера корректно вести себя в процессе познания. Башляр, если не вполне, то во многом, проходит мимо объективных основ объективации знания. И поэтому его “психоанализ объективного познания” оборачивается своего рода “психологией”, моральным профетизмом, почти проповедью, нацеленной на обращение заблудших душ к свету истинной чистоты души, необходимой для того, чтобы ее познавательные акты были объективными.
Эти черты башляровского учения о препятствиях были подмечены М.Серрем [116]. Те “идолы”, с которыми борется Башляр (например, алхимия), оказываются на одном уровне (или одного порядка) с теми идеалами, которые вместо них он стремится утвердить. “Новый научный дух”, прокламируемый философом, как и алхимическое таинство, достигается благодаря своего рода инициации и катарсису. То, что Башляр проповедует, есть моральное преображение познающего человека, его очищение от пороков, лежащих в подсознании. Например, Башляр анализирует такое препятствие, как скороспелое и неоправданное унификаторство. Башляр, считает Лекур, неосознанно использует понятие идеологии, которое у него, однако, как бы “смазано” натуралистическо–психологическим морализмом [102, с. 129]. Примеры унификаторства, которые приводит Башляр, взяты им, в частности, из знаменитой в свое время книги барона де Маривеца и Гуссье “Физика Мира” (Париж, 1780 г. в 9–ти томах). Во–первых, Башляр видит препятствие уже в самом жанре этого трактата: в данном случае это — труд эрудитов. Указанные авторы считают своим достижением описание 49 различных теорий мирового устройства, которое нацелено на то, чтобы в конце концов дать свою единственную теорию. Но, во–вторых, эти почтенные авторы XVIII в. пишут свое многотомное сочинение с презумпцией, что опыт не может себе противоречить, что природа не ошибается и едина, что верно в природе для малого, верно и для большого, что в природе господствует единый план и т.п. И обнаруживая где–нибудь малейший намек на противоречие, на дуализм, дополнительность или неоднородность, они автоматически подозревают за этим какую–то ошибку, которую они призваны устранить, приведя все обсуждаемое ими к высоко ценимому ими единству. Трудности механистического объяснения мирового устройства (как объяснить само наличие материальных тел, наделенных массами, как объяснить изначальное движение, если оставаться на почве механики?) они устраняют, прибегая к унитарной теологии. “Что было непонятно с точки зрения механики, с позиций анализа физического действия, становится понятным, когда обращаются к божественному воздействию”, — говорит Башляр, разбирая препятствие унификаторства на примере этого трактата [55, с. 87].
Это — интересный анализ. Башляр находит забытых авторов и обнаруживает немало поучительного и для истории и для эпистемологии. Но он ничего нам не говорит о том, какие социальные структуры эпохи Просвещения обуславливали такую пред–научную науку. Он оставляет в тени те социокультурные исторические реалии, которые выходят за рамки индивидуальной психологии.
Что же именно, по Башляру, стоит за этой позицией эрудитов, старающихся во что бы то ни стало унифицировать природу? Он не находит ничего, кроме “гордости”, т.е. личного, субъективного качества, проявившегося у данных ученых и лежащего в основе данного вида эпистемологического препятствия: “В фундаменте знания, утверждающего свою всеобщность за пределами опыта, там, где эта всеобщность может встретить возражения, всегда обнаруживается гордость” [55, с. 87]. И так каждый вид эпистемологического препятствия прикрывает собой человеческий порок или недостаток.
На наш взгляд, Башляр потому не выходит на более глубокий уровень анализа проблемы препятствий, что он сам как бы принадлежит эпохе Просвещения с его морализмом, индивидуализмом, рационалистическим пафосом и своеобразным квазирелигиозным сциентизмом. Для Башляра борьба науки с предрассудками так же актуальна, как и для просветителей XVIII в. В своей концепции препятствий Башляр выступает как воинствующий рационалист и моралист–реформатор. Его задача — выявить неподконтрольные разуму аффекты, препятствующие правильному функционированию познавательной способности. Если разум освободить от этих “теней”, то он, обретя автономию и контролируя подсознание, как считает философ, беспрепятственно будет совершенствоваться, открывая новое и развивая природно присущий ему динамизм. Наука, по Башляру, это не данность, не готовый результат. Наука — процесс сциентификации мира и человека, борьба за науку и научность. В этой позиции, развернутой в учении о препятствиях, обнаруживается сложность такой фигуры, как Башляр, в которой сплавлены вместе и черты “нового научного духа”, и черты идеологий и установок прошлого — Просвещения и контовского позитивизма.
Подведем итоги нашему анализу концепции эпистемологических препятствий. Отметим наиболее важные моменты, наиболее острые противоречия. Прежде всего, укажем на оппозицию “научное понятие — валоризированное представление”, лежащую в ее основе. Действительно, валоризированное представление (термин наш, но именно о такого рода образованиях говорит Башляр) в силу своего оценочного характера служит препятствием, как считает эпистемолог, объективному познанию, мыслимому им нацело свободным от валоризации. “Всякий след валоризации, — говорит Башляр, — плохой знак для познания, стремящегося к объективности” [55, с. 65]. Оценка — знак бессознательного предпочтения и уже поэтому она несовместима, считает Башляр, с объективным знанием. Характерным признаком валоризированного представления является то, что оно всегда двузначно (плюс и минус в оценке). Примером первого (“плюс”) служит оценка явлений коагуляции как симптома жизни в качестве способа биогенеза в жидких средах (Валлериус, 1780 г.). Примером второго — позиция Б.Виженера (1622 г.), считавшего, наоборот, коагуляцию приметой смерти. Биполярность валоризированного представления отличает его от объективного научного понятия, структура которого запредельна операции оценки. И поэтому Башляр выдвигает как задачу “психоанализа объективного познания” радикальную девалоризацию научной культуры [там же, с. 65]. В таком направлении и развивается коллоидная теория коагуляции, освобождающая это явление от виталистских его интерпретаций (со знаком плюс или со знаком минус — одинаково).
Но свободно ли, на самом деле, объективное познание от оценки? Сама оппозиция “объективное — оценочное” указывает на то, что не свободно, что сама “оценка” оценена негативно, а “безоценочность” оценена позитивно. Наука, таким образом, раскрывается как сгусток противоречий, как осуществленный парадокс страстного бесстрастия, ценной безоценочности, субъективной объективности и т.п. “Истина” оказывается сосредоточием самой утилитарности, но, очевидно, в тех социокультурных системах, для которых “режим истины” (выражение Фуко) является способом их функционирования и сохранения. Башляр не выходит на анализ этих систем в их исторической конкретности, оставаясь на позициях сциентоцентризма психологического толка.
Сциентоцентризм означает, что объективное познание рассматривается Башляром как самоцель бытия, а наука — как фокус всей культуры, всей эволюции разума, цивилизации и всего мира. В этом выдвижении научного познания на позиции абсолютного приоритета в системе культуры можно увидеть гегелевскую ориентацию мысли, согласно которой самопознание мирового духа приводит, как к своей кульминации, к науке логики, венчающей все познание, весь мировой процесс. Конечно, в этом прославлении науки прочитывается с полным на то основанием и философия Конта*. По Башляру, только в науке вполне реализуется динамическая суть бытия. Наука, скажем мы, пытаясь реконструировать метафизические основания этой позиции, реализует бытие как абсолютное становление, как чистую динамику прогресса. Становление, движение, прогресс — это, по Башляру, суть бытия, его высшее и подлинное определение. А они вполне раскрываются именно в объективном научном познании, в его динамизме и прогрессе. Наука предельно высоко оценена философом потому, что в ней он видит самое полное осуществление сущности бытия вообще — динамизм, ускоряющееся движение, нелинейно нарастающее становление. Это как раз тот самый “бергсонизм навыворот”, о котором мы уже говорили. И, как у Гегеля, у Башляра жизнь (“жизненный порыв”) отождествлена не с иррациональной стихией, а с разумом, который, в свою очередь, сведен к научному разуму. И отличие гегелевского подхода от башляровского в том, что в первом наука подчинена спекулятивной философии как высшей форме научности, а во втором, наоборот, философская спекуляция вторична по отношению к научному познанию. Гегель здесь скорректирован Контом и вместо “объективного идеализма” классической философии мы имеем своего рода “эпистемологический идеализм” (выражение Ваде [117]) или “эпистемологическую иллюзию” (выражение Лекура [102, с. 134])**.
Подъем науки описан Башляром как внутреннее духовное преображение, как интимное душевное усилие, как преодоление “нечистого мира” непосредственной витальности, но не в процессе конкретной истории с ее интерсубъективными силами, а как личная аскеза, реформа души, как очистительный опыт каждого, разоблачающий подсознание, философские ловушки, поспешные генерализации, наивные предрассудки. Иными словами, психологизм отличает изображаемую Башляром “поступь” научного разуму от ее картины у Гегеля, у которого индивид и его личное “делание” вплетены в сверхличные необходимости и тем самым изначально объективированы. Моральная установка следует из все той же валоризации объективного познания, которое предстает как высшая ценность, как идеал и образец динамизма, а ученый — как подвижник становления.
Другим важным моментом сциентоцентризма Башляра выступает его абсолютистский нормативизм. Философ считает, что существуют абсолютные нормы научности и что он, Гастон Башляр, их знает. Эти нормы или идеал — неизменен. Содержательно он представлен в современном математическом естествознании. Его характерные черты — “абстракция” и “математическое конструирование”, “алгебраизм” и “дискурсивность” в противовес “интуиции” и “геометрии”, “прикладной рационализм” и “рациональная техника”. Прогресс задан, по Башляру, четкими и, что важно, неизменными критериями: все бльшая и бльшая ненаглядность научных понятий, все больший и больший их системный характер, все большая и большая отдаленность от мира непосредственности, чувственности, образности, от мира воображения и все большая близость к миру абстрактного разума.
Свою книгу, посвященную анализу препятствий объективному познанию, Башляр заканчивает гимном Школе: “Школа длится всю жизнь”, “наука совместима только с вечной Школой”, “общество будет создано для Школы, а не Школа для Общества” [55, с. 251–252]. И как ни парадоксально, в науке, понимаемой по модели Школы, торжествует несмотря на все разрывы “непрерывная культура”*. “Только в научном творчестве, — говорит Башляр, — можно любить то, что разрушают, можно продолжать прошлое, его отрицая, можно почитать своего учителя, споря с ним” [там же]. Современная наука характеризуется повышенной “школьностью”, если так можно выразиться, пытаясь реконструировать мысль Башляра. Действительно, современная наука, согласно его позиции, чрезвычайно трудна (так как она осуществляет полный разрыв с преднаучной ментальностью, которая препятствует ее усвоению), но именно поэтому она полна воспитательного значения, учит и наставляет дух.
Какие механизмы борьбы с препятствиями (кроме психоаналитического прояснения), с лежащими в их основании “инстинктами” и валоризированными представлениями предлагаются в концепции Башляра? Основным механизмом, гарантирующим “заслон” против препятствий прогрессу науки, является “надзор” (surveillance). “Надзор” — это психологическая функция, независимо от того, осуществляется ли она коллективно (и тогда Башляр говорит о научном сообществе как надзирающей инстанции) или же индивидуально (и тогда Башляр говорит об интеллектуальном надзоре личности) [58, с. 65–81]. Психологизм и педагогизм Башляра “блокирует” развитие его идей об эпистемологических препятствиях. Действительно, указывая на научную культуру и на научное сообщество как на инстанции, ограничивающие действие препятствий, он практически не раскрывает их структуры, их исторической конкретности. “От сенсуалистической и субстанциалистской истории электричества в XVIII в., — говорит Башляр, — ничего, абсолютно ничего не остается в научной культуре, строго охраняемой (surveillée) сообществом специалистов по электромагнетизму (citéélectricienne)” [58, с. 141]. Но о том, как ведется эта “охрана”, этот “надзор”, какова его структура, кодекс, полномочия и т.п., мы ничего не узнаем из работ эпистемолога.
Психологистский фундамент его концепции препятствия (и концепции науки и ее развития в целом) препятствует пониманию социокультурных механизмов “защитного” пояса науки. Наука, по Башляру, — сосредоточие саморазвивающегося психического динамизма. Исходя из такой модели науки и замыкаясь в пределах психологических терминов, Башляр ограничен в своих историзирующих рефлексию науки потенциях. И вместе с этим, как подчеркивает Анкарани, “раскрывается простор для идеалистических тенденций, присутствующих в его концепции науки” [45, с. 84]. По сути дела, борьба с препятствиями сведена у Башляра к борьбе интеллекта с воображением. Надзор ума за воображением и есть, по Башляру, основное условие защиты научности науки, гарантия ее объективности. И Башляр подробно описывает, сколько степеней надзирающей саморефлексии может содержаться в научном духе, отмечая, что четвертая степень самонадзора уже проблематична [58, с. 79–81]. Научная объективность выступает у Башляра как индивидуальная этическая ценность, как аналог моральной святости, достигаемой борьбой с греховной природой. Вступление в объективное знание аналогично достижению высшего морального совершенства: надо пройти своего рода путь аскезы, самоотречения, проявить упорство и постоянство в надзоре за “демонами” воображения, высокую энергию и динамизм психики для того, чтобы войти в царство объективного знания, постичь трудную науку в ее подлинности. И, понятно, что в такой перспективе научное сообщество становится орденом посвященных. Психологизм в модели науки соседствует у Башляра с религиозно–моральным обоснованием объективного познания (наука как высшая религия).
В связи с анализом концепции препятствия сделаем и такое замечание. Башляр не историчен в своем учении о препятствиях, потому что не замечает их диалектики: то, что на определенном этапе развития выступает как препятствие, на более раннем этапе может выступать как средство, способствующее развитию объективного познания. Если уж стремиться к разработке диалектики истории познания, а Башляр к этому явно стремится, то следовало бы рассматривать препятствия в паре с ускорителями прогресса науки. Между “препятствиями” и “ускорителями” существует взаимосвязь исторического перехода. Иными словами, функции социокультурных образований в их отношении к динамике объективного познания амбивалентны. Одно и то же явление культуры, например, герметизм, может служить и катализатором научного прогресса и тормозом для него [8].
Культурной формой очищения объективного познания от препятствий выступает катарсис, внутренняя победа объективного духа над воображением, мифом и склонной к умозрительным обобщениям философией. Башляр в своей работе о препятствиях исследует становление автономной научной культуры, субъектами которой выступают специализированные сообщества ученых. Автономная культура объективного научного познания рассматривается у него как обособившаяся и тем самым защищенная от всяких инокультурных формообразований — от литературы*, мифа, метафизики (философии), теологии и даже космологии*. Но, как мы уже сказали, этот аспект рассмотрения науки лишь намечен, поставлен в повестку дня, будучи ограничен в своей разработке из–за психологического горизонта всей концепции.
Самостановление науки как особой автономной сферы (в глазах Башляра, безусловно, центральной для всей культуры) — вот основная тема исторической эпистемологии. Развитие эпистемологии после Башляра подойдет к раскрытию противоположной стороны — позитивных связей науки и не–науки (литературы и науки, науки и идеологических форм сознания, науки и искусства и т.п.). Если у Башляра в понятии “научной культуры” акцент сделан именно на ее определении как научной, как автономной сферы производства объективного знания, то у структуралистских его последователей, напротив, наука как бы растворяется в культуре, становясь одной из проекций культурного космоса эпохи наряду с искусством, литературой, философией и т.п. Таким образом, вектор движения от мифа к научному логосу сменяется противоположным вектором — от логоса к мифу.
Глава четвертая
Концепция историографии науки
1. Историографическая программа Башляра
как следствие новых философских
и эпистемологических установок
Для французской эпистемологии характерна традиция, в рамках которой теория науки развивается в тесной связи с ее историографией. “Наиболее живым и плодотворным сектором французской эпистемологии, — отмечает ее итальянский исследователь, — является тот ее раздел, который максимально связан с историей науки. Связь эпистемологии с историей науки идет от Конта. Роль истории науки по Конту огромна, если только вспомнить его историософию с ее законом трех стадий. После Конта историографический интерес разделяли различные философы и ученые — от Дюгема до Брюнсвика и Абеля Рея” [109, с. 12]. Именно к этой традиции примыкает и эпистемология Башляра.
Прежде всего необходимо выяснить, как в концепции Башляра соотносятся логика науки, эпистемология и историография науки. Мы специально употребили здесь выражение “историография науки”, так как в текстах Башляра “история науки” часто обозначает исторический процесс развития науки, а не дисциплину, предназначенную для его описания и объяснения.
Башляр отдает должное логическому анализу научных теорий как необходимому средству для того, чтобы раскрыть формальные структуры знания. Но в качестве философии науки он выбирает не формализм, не логицизм, а рационализм: рациональное для него это более широкое и более адекватное обозначение самой сути научного мышления. В этой упорной приверженности к рационализму и в осторожности по отношению к логицизму проявляется принадлежность Башляра к французской традиции в рефлексии науки, отличной от традиции англо–саксонской. Действительно, анализ науки и у Л.Брюнсвика и у А.Рея базировался на своего рода философии рациональности, рассматриваемой в широкой исторической перспективе. Существенно в этой связи и то обстоятельство, что, начиная с Пуанкаре, французская математическая традиция (и в связи с этим в значительной мере и традиция философии и истории науки) руководствовалась идеалом конструктивистской программы, ориентируясь скорее проблематикой, разрабатываемой в области математической физики, чем математической логики и тех направлений, которые развивались в связи с попытками преодоления кризиса в основаниях математики. “Логика и аксиоматизация стали мишенью для теории, признающей познавательный и “прикладной” характер математического мышления”, — говорит П.Редонди, исследовавший значение специфики французских традиций для становления исторической эпистемологии Башляра [113, с. 80]. Соотношение логики и эпистемологии резюмируется Башляром так: “Изучение логических основ знания не исчерпывает эпистемологического его изучения” [58, с. 18].
По отношению к историографии сама эпистемология выступает как логика. Эпистемологический анализ развития знания, как он понимается Башляром, принимает за исходный пункт познавательное отношение: наука есть познание реальности, а именно развертывание рационального ее освоения. Поэтому рост рациональности, приближение знания к идеалам рационализма — активного, конструктивного, эффективного — и есть эпистемологическая ось развития знания. Эпистемология учит логически отпрепарированной истории, не той, которая была в ее эмпирии, внешнем многообразии, своего рода хаотичности и случайности происшедшего, а той, которая должна была бы быть, если бы разум работал без помех. В эпистемологическом прочтении истории категория историчности знания совпадает с категорией рациональности. Резюмируя свою первую и мало известную среди философов работу по истории математической термологии конца XVIII–XIX в., Башляр говорит: “Развитие науки не есть просто историческое развитие, оно пронизано единой силой, можно сказать, что порядок плодотворных мыслей есть своего рода естественный порядок” [47, с. 158]. По Башляру история познания есть познание и она проясняется эпистемологически в свете актуальной познавательной работы, решающей “сквозную” проблему (например, познания теплопроводности твердых тел, анализу которой посвящена его первая историко–научная работа, цитированная нами выше).
Теория истории науки, принципы ее историографического анализа вытекают у Башляра из его теории науки. В противовес позитивистской концепции, вопреки эмпиризму и конвенциализму, Башляр считает, что максимум реальности дан не в первичных эмпирических данных, не в ощущениях, т.е. не на “входе” познания, а на его “выходе” — в математизированной теории. И поэтому познание не есть просто экономное описание данностей ощущений, а есть проникновение в новые пласты реальности, открываемые активностью математического разума. Математическое мышление, в частности, в физике, выступает для Башляра как эвристическое и содержательное. И в этом смысле надо понимать процитированное выше высказывание, согласно которому развитие науки не есть просто история, но есть гармонизация мира рациональных идей, перебрасывающая мост к гармонии самой реальности, к порядку самой природы (l'ordre naturel). Это положение резюмирует суть эпистемологического видения истории науки: наука есть рациональное познание реальности, “логика идей” есть выражение “логики вещей". Таким образом, не случайности чисто исторического “бывания” входят в эпистемологическую историю науки, а необходимости “схватки” разума с природой. И та “единая сила, пронизывающая историческое развитие науки”, о которой говорит Башляр, есть динамика этой борьбы, этого — всегда частичного — совпадения разума и природы, рациональной способности в ее действии с предметом познания. Аподиктичность самого предмета познания — вот в конце концов та “единая сила”, которая задает путь эпистемологической истории. Причем этот предмет минимально дан в ощущениях и максимально в развивающейся идее, в рациональной конструкции, образцом которой выступает математика. “Именно идея, — говорит Башляр, — видит особенное во всем его богатстве, по ту сторону ощущения, которое схватывает лишь общее” [47, с. 159].
Констатация познавательного примата математической идеи над непосредственным фактом, данным в ощущении, отвечает разрыву Башляра в теории науки с позитивизмом. Этот разрыв он стремится оформить и в историографической концепции. И здесь путь его мысли достаточно извилист. Порывая с эмпиризмом и конвенциализмом Маха и Дюгема, на французской почве развивавшим идеи австрийского ученого, Башляр в известной мере возвращается к основоположнику позитивизма — Огюсту Конту. Но только до определенных границ. Редонди справедливо отмечает “глубокую преемственность между Контом и установкой Башляра как историка науки” [113, с. 181]. В частности, он подчеркивает, что общими моментами у Конта и Башляра выступает их видение науки сквозь призму истории, идеализация сообщества ученых или “града ученых” (cité scientifique) и, наконец, упорное непонимание обоими философами позитивной роли философии в научном прогрессе [113, с. 178].
Однако, нетрудно видеть и различия. В частности, Башляр совсем по–иному понимает роль и значение математики в естествознании, чем Конт. Это касается, например, соотношения химии и математики. Башляр разделяет точку зрения, высказанную Ю. Либихом, который был несогласен с Контом, считавшим, что характеру химических явлений чужд математический подход [75, с. 578]. Он считает, что роль математики в химии столь же существенна и несет ту же эпистемологическую нагрузку (или почти), что и в физике [60, с. 4]. Химия, как и физика, переросла, считает Башляр, стадию эмпирической науки и стала рациональной, а тем самым и математической наукой.
Итак, историографическая программа Башляра вытекает из его эпистемологических установок, которые сами в свою очередь сложились в силовом поле двух полюсов: во–первых, как попытка извлечь эпистемологический урок из революций в естествознании (в физике, прежде всего, а также и в химии), а во–вторых, как критическое переосмысление философии науки в современной Башляру Франции 20–30–х гг. Отбросив позитивистский эмпиризм как основание теории науки, Башляр устремился к выработке “нового рационализма”, который он разрабатывал на материале истории науки. История науки в ее традиционной форме служит, как считает Башляр, лишь материалом для эпистемолога, обращающегося к историческому анализу. Чем же отличается позиция “чистого” историка от позиции эпистемолога–историка, по Башляру? Во–первых, тем, что если история историков в принципе “враждебна любому нормативному суждению”, то история при эпистемологическом подходе к ней нормативна. “Если хотят судить об эффективности мышления, надо встать на нормативную точку зрения” — говорит Башляр [55, с. 17]. И действительно, если история это — познание (основной тезис историографической концепции Башляра), то она как и познание должна быть судима. Оценка неизбежно врывается в историю, если последняя рассматривается как постижение реальности. Но с какой позиции надо, по Башляру, судить историю? Конечно, с позиций разума, причем, как он это подчеркивает, с позиций развитого разума, высокой рациональности, содержащейся в современном знании. Современность становится судьей над прошлым. Этот презентизм или, как его называет сам Башляр, “модернизм” — неизбежное следствие его историографической концепции, отождествившей историю с рациональным познанием, протекающим по определенным нормам и стремящимся к определенному фиксированному идеалу. Очевидно, что такая модернизаторская установка является следствием той посылки, согласно которой история есть познание той же самой неизменной реальности. Здесь, между прочим, обнаруживаются и противоречия концепции Башляра. Действительно, у него нет рационально оформленной, эксплицитно развернутой онтологии. “Психического динамизма” разума для этого явно недостаточно. Динамика разума у него постулируется, а не выводится. А попытаться вывести ее можно было бы из динамики социокультурного комплекса в исторически конкретном его функционировании. Однако такой подход к анализу науки нацело или почти выпадает из концепции Башляра.
Итак, эпистемолог осуществляет рефлексию второго порядка по отношению к работе историка. “Эпистемолог. — говорит Башляр, — должен произвести выборку документов, собранных историком” [55, с. 17]. Эпистемолога в его обращении к истории интересует не все, а лишь процесс совершенствования рационального схватывания природы в рамках комплекса “теория — эксперимент”. “Усилие рационального и конструктивного начала — вот что должно захватить внимание эпистемолога”, — говорит Башляр [там же]. И далее он проводит противопоставление между профессиональным историком, с одной стороны, и эпистемологом, с другой, ставшее впоследствии особенно часто цитируемым: “Историк науки должен брать идеи как факты. Эпистемолог же должен брать факты как идеи, вписывая их в систему мышления. Плохо понятый эпохой факт остается фактом для историка. Но для эпистемолога он препятствие, контр–мышление” [там же].
Прокомментируем эти слова. В свете нами сказанного они становятся ясными: Башляр требует от эпистемолога относиться к истории как и к современному познанию, как к актуальной познавательной работе. “Факты”, то, что считалось фактами в определенную эпоху, эпистемолог обязан проверять и оценивать, соотнося их с целым познавательным комплексом, сформированным в настоящее время — с системой мышления по поводу данной проблемы. И в свете такой проверки “факт” может оказаться и не фактом, а артефактом. Итак, для эпистемолога, так сказать, нет “ничего святого” в истории мысли: и факты и идеи он подвергает строгой оценке, пристрастному суду, где судьей выступает современный разум, озабоченный одним — объективным познанием. История судится эпистемологом как познание, без всяких скидок на “историю” (на незрелость науки, на неблагоприятный культурный контекст и т.п.).
Историк же ведет себя совсем иначе. “Факт”, неправильно (с современных позиций) проинтерпретированный эпохой, которую он изучает, для него “святой факт” — он его бережно регистрирует, вставляя в полотно исторического повествования. Даже идеи историк не трогает, какими бы они ни были — вопроса об их правильности с точки зрения современной науки он не касается или может, по крайней мере, не касаться. Напротив, для эпистемолога мало того, что данная идея существовала: ему нужно, чтобы она была правильной, или, по крайней мере, продуктивной, плодотворной идеей, ведущей к будущему, т.е. к современному, состоянию науки. Для эпистемолога, говорит Башляр, “идея должна иметь нечто большее, чем доказательство своего существования, она должна обладать духовной судьбой” [57, с. 11]. Идея флогистона, он считает, “духовной судьбой” не обладает. Поэтому она — не предмет анализа эпистемолога. А “историк науки, который ею занимается, — замечает Башляр, — должен знать, что он работает в сфере палеонтологии исчезнувшего научного мышления” [62, с. 25]. Но это не совсем точно: эпистемолога Башляр тоже может допустить к анализу флогистики, но исключительно как к эпистемологическому препятствию. Исторический анализ тем самым превращается в психоанализ объективного познания, нацеленный на терапию мышления, подверженного “болезням” познания. В качестве такого эпистемолога–терапевта выступает сам Башляр в своей книге “Образование научного духа” [55]. Таким образом, история в эпистемологическом ключе служит и для педагогических целей, так как “демоны”, “помехи”, “препятствия” осаждают не только научное творчество, но и усвоение его результатов.
2. Первая стадия развития историографической
концепции
В эволюции историографической концепции Башляра мы обнаруживаем две стадии. Первая стадия (20–30 гг.) задает основные вехи этой концепции, нами кратко уже отмеченные. Решающим моментом на этой стадии выступает не–позитивистская концепция научного знания, сформулированная Башляром в его эпистемологическом трактате [48] и примененная к анализу специальной историко–физической проблемы [47]. Познание как прогрессирующее исправление ошибок, как рациональная активность опережающего эмпирический уровень теоретического разума, познание как математическое конструирование и т.п. — все эти идеи “нового рационализма” составили основу и историографии Башляра.
Ко второй стадии разработки историографической концепции Башляра мы относим его работы 40–50–х гг., когда в центр внимания философа попали современные физические и химические теории, в особенности, волновая механика и квантовая химия. Результаты работы по уточнению и развитию концепции историографии науки были подытожены в основном в двух работах: “Рационалистическая активность в современной физике” (1951 г.) [62], в которой была выдвинута концепция “рекуррентной истории”, и в выступлении во Дворце открытий в Париже “Актуальность истории науки” (1951 г.) [59].
а) Критика историографических установок
позитивизма
“Этюд об эволюции одной физической проблемы. Распространение теплоты в твердых телах” (1927 г.) Башляр начинает со своего несогласия с позитивистской, в частности, с махистской концепцией эволюции науки, сводящей направленность развития научного знания к переходу от изучения проблем более простых к изучению проблем более сложных. Рост сложности проблем, подчеркивает Башляр, не может служить ориентиром для понимания истории науки [47, с. 7]. В силу тезиса о непрерывной преемственности между обыденным знанием и знанием научным то, что просто для непосредственного сознания просто и для научной его обработки. Но, как показал исторический анализ развития термологии в XVIII–XIX вв., явление теплопередачи только кажется простым для его научного познания. Действительно, это явление — “объект обыденного опыта, и легко можно варьировать различные элементы этого опыта. Поэтому кажется, — рассуждает Башляр, — что явление должно было бы быть легко понятым, как только обратят на него внимание. Но тем не менее проблема эта была длительное время затенена серьезными и упорно удерживающимися ошибками, и нужно было ждать XIX в. для того, чтобы найти ее точное решение” [47, с. 7]. Итак, Башляр историей проверяет теорию науки позитивизма и приходит к выводу, что она не выдерживает ее проверки. И вместе с позитивистской эпистемологией он отбрасывает и позитивистскую историческую концепцию. И это происходит потому, что Башляр, отбросив позитивистскую теорию науки, должен был найти новую, а новая теория требует и новой историографической концепции. Так в тесном взаимодействии истории и эпистемологии происходит их взаимное развитие.
Пример с термологией показывает, что история науки характеризуется сложными, запутанными путями, для анализа которых требуется своего рода диалектическое мышление. Характерно, что именно в этой работе Башляр впервые использует понятие диалектики: “Диалектическое движение разума”, — говорит он, — ведет историю познания [там же, с. 159]. А в состав этого движения входят и разрывы, и препятствия, т.е. все те моменты, которыми пренебрегала позитивистская историография.
Позитивизм предпочитал анализировать сложившиеся, чётко структурированные дисциплины с долгой исторической жизнью. Образцом такой дисциплины является механика, на базе которой строились эпистемологические и историографические концепции многих позитивистов. Полемизируя с позитивизмом, Башляр изменяет сам исходный предмет анализа. На передний план выдвигается задача постижения таких разделов науки, которые только еще формируются в своем дисциплинарном аппарате, развиваясь совсем по иным закономерностям, чем движение от простого к сложному или совершенствование “экономичности” описания исходных фактов. При этом меняется и единица историко–научного анализа: в поле зрения историка и эпистемолога попадает не столько целая научная дисциплина, сколько отдельное понятие или проблема. Примером такого сдвига служат как работы самого Башляра, так и работы его учеников, например, Ж.Кангилема. Благодаря такой ориентации открываются возможности для анализа внутренней жизни научных проблем и понятий, их связи с философскими предпосылками и, конечно, с психологией мышления. Возникает проект охватить всю историю познания единой телеономией — понятием совершенствующейся рациональности, причем у Башляра задан и ее идеал. Это — абстрактный, динамический, “алгебраический” разум, высвобождение которого и составляет направляющую нить, в частности, истории термологии как важного раздела математической физики. Историко–эпистемологический анализ термологии XVIII–XIX вв. оказался для Башляра парадигмальным примером, на базе которого он построил всю свою концепцию истории науки.
Диалектическое, аподиктическое движение рациональной мысли открывает, по Башляру, новые явления, которые не содержались в первично–данном опыте. И эта особенность, эпистемологически выраженная в концепции феноменотехники, находит также и свой историографический эквивалент, задавая внутреннюю необходимость развития науки. Диалектический разум, по Башляру, — разум математический, прежде всего, причем математика выполняет активную познавательную функцию, проникая в глубины самой реальности. Формулируя математическую модель, ученый получает оригинальный физический результат. Эта эпистемология нового рационализма (в противовес к старому эмпиризму позитивизма) находит себе и новую концепцию истории науки. “Предвидение, — говорит Башляр, подводя итоги своему анализу истории термологии, — идущее от математики, осуществляется физически и входит в самую интимную сущность явления. При этом речь не идет об обобщении (фактов), но, напротив, опережая факт, идея открывает деталь и заставляет обнаружиться специфические особенности явления” [47, с. 159].
Развитие такого уровня рационализации и определяет направление истории науки как исторической эволюции познания. Проблема эпистемологического статуса математической физики, проблема “непостижимой эффективности” математики в физике, анализируемые Башляром на примере становления математической термологии, оказываются у него в центре и философского вопрошания (как реальность может анализироваться разумом?) и исторической проблемы (как развивается научное познание реальности?). Позитивистская теория науки вращалась в кругу абстрактно–логических категорий такого типа, как общее и единичное, сводя функцию разума именно к обобщению непосредственно данных явлений. Башляр же переориентирует категориальную сеть, задающую эпистемологическую концепцию. “Необходимость, — говорит он, — обосновывает общее, но обратное соотношение само собой не проходит” [47, с. 161]. Математическая модель явления нужна потому, рассуждает философ, что она позволяет выявить необходимость. Именно это обстоятельство объясняет, как считает Башляр, “парадоксальную эффективность математики” в естествознании.
Другой важной категорией новой эпистемологической установки выступает категория возможности. “Возможное, — говорит Башляр, имея в виду математическую физику, — обнаруживает себя здесь с такой полнотой, что возникает чувство господства над реальностью, чувство надежного постижения явления в его тотальности, когда оно схвачено в его гармонической возможности” [47, с. 163]. И, заключает философ, “анализ реальности может с уверенностью осуществляться на основе гомогенного синтеза возможностей”. Этот синтез возможностей, реализуемый в математической физике, раскрывает новые пласты действительности. Статическая эмпирическая эпистемология позитивизма заменяется у Башляра динамической рационалистической эпистемологией. Объект математической физики, по Башляру, это — очищенное от случайностей явление, данное в плане его возможностей, т.е. явление, данное через становление, через движение, так как возможности явления это — возможности изменений всех переменных величин, описывающих его. Высвечивание бытия (реальности) через становление составляет эпистемологический смысл математического конструирования явлений. В методе математической гипотезы происходит обогащение данного явления или факта за счет реконструкции поля его возможностей. В результате эмпиричность исходного уровня познания преодолевается. Теоретически “нагруженный” факт отвечает новому более глубокому уровню реальности.
При истолковании роли математики в естествознании, подчеркивает Башляр, надо учитывать не столько аналитические, сколько синтетические процедуры, конструктивные приемы. Мы не можем здесь рассматривать все эпистемологические выводы, к которым Башляр пришел на основе анализа математической термологии. Отметим только, что он прозорливо подмечает и роль принципов сохранения как регулятивов, скрепляющих здание научной теории, и значение понятия группы, поразительно эффективного при построении физических теорий, в частности, в кристаллографии. Эти эпистемологические анализы нам важны для того, чтобы понять башляровскую концепцию развития науки, задач и методов историографии науки. И мы видим, что Башляр прежде всего сосредоточен на анализе тех моментов в прошлом, которые максимально сближают его с современной наукой. Но при этом возникают и некоторые вопросы, в частности, в связи с анализом творчества Ж.Фурье.
Характеристики подхода Фурье к проблеме теплопроводности в твердых телах предстают вполне адекватными особенностям и современной математической физики. Возникает предположение, что между новейшей физикой (физикой, скажем, Эйнштейна) и физикой Фурье принципиальных, фиксируемых на эпистемологическом уровне, различий нет. Но как быть тогда с упорно декларируемом Башляром разрывом между классической наукой, к которой мы должны причислить Фурье, и не–классической наукой, отвечающей “новому научному духу”?
По–видимому, и это подтверждает анализ текстов Башляра (например, проводимое им сопоставление классического или традиционного рационализма, с одной стороны, и рационализма, возникшего в связи с созданием теории относительности, с другой [56, с. 30–31]), мы должны признать наличие между Фурье и Эйнштейном эпистемологического разрыва. Рационализм Фурье, как ни восхищается им Башляр, тем не менее, входит в состав “ньютоновского рационализма, направлявшего всю математическую физику XIX в.” [56, с. 31]. Ньютоновский рационализм имел четко определенные пределы аналитичности — в своем анализе явлений он был жестко ограничен совокупностью своих базовых понятий (абсолютное пространство, абсолютное время, абсолютная масса). Теория относительности же подвергла эти основные “понятийные атомы” (выражение Башляра) преобразованию и тем самым в математической физике был введен режим нового рационализма.
б) Конт, Башляр и Фридман о работах Жозефа Фурье
В историко–эпистемологическом анализе развития термологии Башляр приходит к формулировке своих основных понятий — разрыва и эпистемологического препятствия. Серьезный эпистемологический разрыв был осуществлен именно в работах Фурье, резюмированных в его “Аналитической теории теплоты” (1822 г.) [88]. “Первым знаком позитивности в термологии, — говорит Башляр, — является разрыв со всеми исследованиями природы теплоты. Всегда имелись две гипотезы: теплота это — флюид или движение. Борьба между ними поколебала их обеих. (“Они в равной мере дискредитированы в глазах самых рационально мыслящих физиков” О.Конт. Курс позитивной философии, т. II, с. 266). Пришло время, поставив их на одну доску, избавиться от них обеих и организовать рациональное исследование, исходя из фактов... И хотя кажется, что разум сам несет с собой свет, который нельзя больше не признавать, однако привычка столь могущественна, что даже в самой науке историческая традиция довлеет над рациональностью” [47, с. 57]. Мы видим, что с именем Фурье, с его математической теорией теплопередачи, Башляр связывает разрыв с привычками мыслить субстанциалистски, исходя из флюидов или других субстанций, т.е. мыслить натурфилософски, а не физико–математически.
Интересен и тот момент, что соперничество конкурирующих общих гипотез о природе теплоты способствовало математизации термологии. Конечно, она началась раньше работ Фурье. Здесь важную роль сыграла программа математизации естествознания, выдвинутая Лапласом и Бертолле и поддерженная Био, а также увлекшая и других ученых, группировавшихся вокруг Нормальной школы (а затем и Политехнической) и входивших в Аркейский кружок, явившийся, может быть, первым научным сообществом профессиональных физиков и химиков, создававших математическое естествознание [13, с. 158–160]. Кстати, этот “инкубационный” период становления профессиональной математической физики в социокультурном плане Башляр не исследует. И в этом отношении его историческая работа представляет разительный контраст с современными исследованиями творчества Фурье, в частности, с работой Фридмана [88]. Сравнение этих работ, написанных на высоком профессиональном уровне (работа Фридмана получила премию Г.Шумана от Общества по истории науки в 1973 г.), нам представляется интересным для оценки вклада Башляра в мировую историографию науки.
Прежде всего отметим, что использование представления о концептуальном разрыве (conceptual break), совершенного, согласно Фридману, работами Фурье, указывает на то, что признание дисконтинуальности в развитии науки укоренилось в современной историографии. Мы не имеем в виду, конечно, какой–либо род прямого влияния французского эпистемолога на американского историка. Нам важно только отметить, что мышление современного историка, разрабатывающего лежащие на “переднем крае” историко–научных исследований* направления, в качестве своей концептуальной компоненты содержит понятие эпистемологического разрыва. “Использование Фурье обменов как фундаментального принципа, — говорит Фридман, — вскрывает концептуальный разрыв в изучении теплоты” [90, с. 80]. Башляр считал, что Фурье в качестве физического допущения своей аналитической теории принимал, что тепло передается от более теплого тела к более холодному пропорционально разнице температур, о чем говорил еще Ньютон [107]. Но Фридман считает, что Фурье отталкивался не от старой теории, а от новых (хотя и от старых тоже) экспериментов, которые он выполнял с 1804 по 1806 гг. [90, с. 78]. Фридман документально подтверждает свою точку зрения, показывая связь Фурье с Прево, разделявшим концепцию обменов тепловым излучением, которая и была основной физической предпосылкой для аналитической теории Фурье.
Итак, разрыв в термологии, совершенный Фурье, состоял в том, что до его работ теплопередача и, в частности, тепловое излучение объяснялись в терминах теплорода как “отталкивающего” принципа. И такую концепцию разделял даже и Био*. Фурье же основал термологию на новой почве: у него теплопередача — это независимая автономная область физических явлений очень широкого класса, требующая своих особых принципов. На уровне, так сказать, философии природы Фурье не отрицал концепции теплорода. Но при сохранении ее в глобальном аспекте он решительно отказывается от нее в локальном плане — в области науки о теплопроводности. Однако между концепцией тепловых обменов Прево и концепцией Фурье лежит разрыв. У Прево это единственно возможная теория теплоты, а у Фурье она релевантна только для учения о теплопроводности.
Таким образом, Фридман критикует Башляра за то, что он неправильно истолковал физический базис математической теории теплопередачи Фурье. По Фурье, теплопередача основана на взаимном обмене тепловым излучением двумя телами, между которыми происходит этот процесс: менее нагретое тело также излучает тепло. И Фурье, исходя из такой физической гипотезы, ищет математические условия приведения системы в равновесие. Башляр же считал, что Фурье следует за Ньютоном, полагавшим, что теплота движется односторонне от более нагретого тела к менее нагретому пропорционально разнице в их температурах. Хотя Фридман и корректирует Башляра в специальных историко–физических моментах, он, тем не менее, следует принципам дисконтинуального подхода, обращая внимание, и при том весьма взыскательным образом, на все пункты эпистемологических разрывов.
Наконец, мы позволим себе остановиться еще на одном моменте, касающемся позитивизма Фурье. Конечно, мы не можем здесь разбирать эту проблему, по поводу которой было высказано много точек зрения [95, с. 123–124; 96, с. 186–187; 113, c. 170–181]. Нас по–прежнему будет интересовать прежде всего позиция Башляра, его историографическая концепция. Но мы ее сопоставим в данном вопросе с позицией современных исследователей, в частности, Фридмана, специально изучавшего становление программы Фурье и ее связь с Контом. Вопрос этот важен для анализа историографической проблематики, по крайней мере, в двух аспектах. Во–первых, философия в данном случае вовсе не была бесспорным препятствием развитию науки, как это следует из концепции Башляра. Во–вторых, важен и эпистемологический момент такого рода: в какой степени Фурье создавал свою теорию как чисто математическую модель, независимую от физических соображений? Вопрос этот важен уже потому, что сам Конт, как это видно из его “Курса”, процитированного Башляром (см. выше), считал, что физические (а в контовском смысле это почти “метафизические”) предпосылки, в частности, гипотезы о природе теплоты могли только помешать Фурье в создании математической теории теплопередачи.
"Курс позитивной философии” (1830 г.) Конта, его главное сочинение, было посвящено “знаменитым друзьям — барону Фурье и профессору Бленвилю” [78]. Основная работа Фурье вышла в свет в 1822 г. Теорию Фурье Конт подробно, с большим пониманием математической стороны работы анализирует в XXXI лекции своего “Курса”. Открытия Фурье в глазах Конта, — пишет Башляр, — имеют такую важность, что он, не колеблясь, сравнивает их с открытиями закона тяготения Ньютона. Некоторое время спустя после смерти Фурье Конт писал, что, “начиная с теории гравитации, никакое математическое создание не имело большей ценности и значения, чем работа Фурье, в том, что касается общего прогресса натуральной философии, причем, исследуя эти два великие мыслительные синтеза более внимательно, может быть найдут, что основание математической термологии Фурье было менее подготовлено заранее, чем основания небесной механики Ньютона” [47, с. 56]. В последнем замечании, кстати, Конт подчеркивает, что разрыв, осуществленный Фурье, может быть, еще более радикален, чем разрыв, совершенный Ньютоном. Правда, он не употребляет этого термина. Мы отмечаем этот момент еще и потому, что для позитивистской историографии характерно как раз подчеркивание постепенной подготовки научных достижений в прошлом. То, что Конт, можно сказать, делает исключение из правил своей историографии для Фурье лишь подчеркивает то действительно сильное впечатление, которое произвела на него “Аналитическая теория теплоты”.
Башляр это воздействие Фурье на основоположника позитивизма объясняет тем, что теория Фурье “в определенных отношениях представляет собой позитивистский идеал объяснения” [47, с. 54]. Действительно, теория Фурье принимает минимальное число параметров (три — два коэффициента теплопроводности и одно значение удельной теплоты). И как только эти величины определены, то “все вопросы относительно распространения теплоты — говорит Фурье — зависят только от вычислений (l'analyse numrique)” [47, с. 37]. Башляр подчеркивает момент “экономии” в строении аналитической теории Фурье и “равновесие” между фактами и разумом, которое в ней обнаруживается как именно те моменты, которые привлекли внимание и Конта. И поэтому, заключает Башляр, “столь специальное создание, как теория Фурье, имело непосредственное философское влияние, будучи действительно математикой позитивизма” [47, с. 54].
Башляр во многом согласен с Контом в его оценке Фурье. Он защищает родоначальника позитивизма от критики в его адрес со стороны позднейшего французского идеализма и спиритуализма, в частности, от критики Ренувье. Ренувье критиковал Конта за то, что тот, якобы, напрасно упорствовал в ограничении рамок научного исследования, что он допускал слишком бедную теоретическую основу в своей модели науки, чтобы дедукции из нее были плодотворны. На эту критику Башляр отвечает таким образом: “Однако творчество Фурье дает Конту решительное оправдание. Оно пронизано как раз именно этим духом осторожности и ограниченности, что и создает позитивный дух, и время, далекое от того, чтобы сделать творчество Фурье “устаревшим”, только лишь подчеркивает значение его в самых различных областях” [47, с. 56]. Башляр стремится защитить Конта и показать его истинное историческое значение. Так, например, он напоминает, что именно Конт способствовал профессионализации математической физики и естественных наук в целом, стремясь интегрировать научные результаты в единую систему знаний: “Ошибаются, — говорит он, — относительно смысла позитивизма, если забывают про ту заботу об организации (знания — вст. наша — В.В.), которую он одушевлял. В научном сообществе строгая экономия усилий должна поставить точный опыт на его строго определенное рациональное место” [47, с. 68]. Для Башляра Конт — это “философ организации науки” [там же, с. 71]. Башляр нашел у Конта много созвучных с его подходом установок. Выше мы уже отметили такие моменты, как ориентация на историю в философии науки, понятие “научного сообщества”, отрицательное отношение к традиционной философии, критическое отношение к логике и формализму (у Конта по отношению к Евклиду, а у Башляра — к аксиоматике Гильберта)*. Но “сходимость” Башляра и Конта идет еще дальше, что мы и обнаружили, разбирая работу Башляра о развитии математической термологии. Связь опыта (эксперимента) и расчета, физического наблюдения и математического построения — вот что одинаково видят и Конт и Башляр. Математически–конструктивный и не–априорный характер рациональности, обнаруживаемой у Фурье, отмечают и Башляр и Конт.
Однако Башляр несколько модифицировал Конта в своей полемике со спиритуализмом, защищая основоположника позитивизма от позднейших нападок “справа”. Этот момент отмечает Редонди: “Башляровская интерпретация Конта освободила его математическую феноменологию, основанную на творчестве Фурье, от феноменалистского эмпиризма” [113, с. 176]. Башляр приписывает Конту несколько иную концепцию математики, чем та, что была у самого Конта и затем утвердилась в позднейшем позитивизме Маха и Дюгема. Башляр сближает Конта со своим учителем Брюнсвиком, для которого (как и для самого Башляра) математика — не просто язык, средство экономного описания опыта, не просто орудие предсказания, но само мышление, содержательное проникновение в реальность.
Итак, Башляр считает, что контовская эпистемология была адекватной для своего времени, что она способствовала развитию математической физики, хотя в дальнейшем и обнаружилась ее ограниченность (в эпоху “нового научного духа”). Правда, некоторые положения Конта–эпистемолога, как считает Башляр, актуальны и для XX в. В частности, Конт считал, что “объяснение и измерение должны быть гомогенны”. “Этот рецепт, — подчеркивает Башляр, — следующий из контовской эпистемологии, и сейчас может служить идеалом и для экспериментатора и для теоретика” [47, с. 70]. Математический анализ столь эффективен у Фурье потому, что он как бы следует за аналитическим маршем самой природы. А это удалось Фурье потому, что он сумел выделить феномен в чистом виде, что дало возможность широко использовать геометрические факторы. “Позитивное изучение, — говорит Башляр, — берет проблему в том аналитическом ее состоянии, которое представляет сама природа” [47, с. 62].
Работа Фридмана показала, что в основе теории Фурье лежали определенные физические предпосылки (принцип взаимного обмена внутри проводящего теплоту тела тепловым излучением). За аналитическим аппаратом Фурье, таким образом, стояли четкие физические гипотезы и именно их удачный выбор, их независимость от таких “сильных” гипотез, как теплород с его отталкивающей силой, внесли свой вклад в успех теории. Как нам представляется, Башляр в своей реабилитации Конта от нападок враждебной ему спиритуалистической философии, действительно плохо понявшей науку XX в., преувеличил математизм теории Фурье в духе позитивистской эпистемологии, с которой он сам же и боролся. Физической гипотезе он противопоставляет факт: “В математической физике, — говорит он, разбирая теорию Фурье и ее контовское прочтение, — надо твердо опираться на факт” [47, с. 58]. Бессмысленно противопоставлять факт теоретической гипотезе: оба компонента нужны для построения математической модели физического процесса. Конечно, Башляр противопоставляет факт априорной идее, а именно идее теплового флюида, который не входил в конструкцию аналитической теории теплопередачи. Но действительные физические предпосылки теории Фурье выпали из поля зрения и Конта, и Башляра. Однако сам Фурье строил свою математическую модель на базе определенной физической гипотезы. Вот как описывает ее Фридман: “Каждая молекула твердого тела распространяет тепло во всех направлениях, причем тепловые лучи перехватываются другими молекулами. И этот процесс ведет к равновесию, которое можно рассчитать математически” [90, с. 87].
Второй момент связан с позитивизмом Фурье. Башляр называет его теорию “математикой позитивизма” [47, с.54], характеризуя ее как “одну из первых моделей позитивного духа” [там же, с. 55]. Прежде всего, надо отметить, что сам термин “позитивное знание” и все производные от него выражения не стоят в непосредственной и однозначной связи с Контом и с его позитивизмом. Дело в том, что этот термин был широко в ходу задолго до контовского позитивизма. Так, например, он встречается в предисловии Био к его переводу книги Э.Г.Фишера “Физическая механика” (Париж, 1806). В состав “позитивного знания” в раннем словоупотреблении этого выражения в кругу французских ученых входили все основные естественные науки, стремящиеся к широкому использованию математики [89, с. 8].
Другой момент, подчеркнутый Фридманом, состоит в том, что теория Фурье в основных ее чертах была создана значительно раньше выхода в свет его книги (1822 г.), когда происходил расцвет деятельности Конта и подъем позитивизма. Как считает Фридман, уже к 1811 г. эта теория была фактически разработана, а это означает, что ее создание было свободно от какого бы то ни было влияния со стороны контовского позитивизма и соответствующей ему философской атмосферы, которая стала складываться во Франции только после 1815 г.
На каких же философских и эпистемологических основах базировалась теория Фурье? Как убедительно показали исследования Фридмана, теория Фурье, как и многие работы других французских ученых конца XVIII в. и начала XIX в., имела своей философской подосновой аналитическую методологию Кондильяка, получившую распространение во французском преподавании наук после выхода в свет в 1798 г. его “Логики”. В частности, логика Кондильяка стала основным методологическим руководством в Нормальной школе, учрежденной в 1794 г. и ставшей социально–педагогической базой для новой математической физики и для всего цикла естественных наук, обретавших свою профессионализацию и дисциплинаризацию.
Именно в рамках этой школы и сложилась интеллектуальная ориентация Фурье, который поступил в нее в 1795 г. Каждый ученик школы при своем поступлении обязательно получал “Логику” Кондильяка. Лаплас, профессор этой школы, указывал на значение именно того “анализа”, о котором говорил в своей “Логике” Кондильяк. Анализ как нахождение простых элементов посредством разложения сложных феноменов и затем синтез на основе этих элементов всех наблюдаемых явлений в рамках алгебраически выраженного закона — вот эпистемологический идеал в формулируемом в то время сообществе профессиональных ученых–естествоиспытателей. Причем, сама логика Кондильяка — только один из ярких примеров аналитической эпистемологии, восходящей в своих принципах еще к Декарту.
Место Фурье в этой аналитической традиции определяется тем, что он “ввел в науку новую и могущественную аналитическую технику, но не создал при этом новой “позитивной” эпистемологии” [90, с. 98].
В аналитической эпистемологии Кондильяка, столь популярной фигуры в интеллектуальной и педагогической жизни Франции второй половины XVIII в., соединились традиции континентального (лейбницианского) анализа и ньютонианства. Лучшим аналитическим языком науки Кондильяк считал алгебру.
Кстати, именно алгебра выдвигается и Башляром как эпистемологический идеал. Как и Кондильяк, Башляр считает, что прогресс знания основывается на приближении знания к алгебраическому идеалу, уводящему знание от интуиции и наглядности, служащих, в конце концов, препятствиями для него. Отметим, что алгебраизм программы Кондильяка подчеркивал примат формализма над содержательными моментами, способствуя тем самым в атмосфере преднаучной ментальности додисциплинарного естествознания образованию научного духа. В частности, указанная аналитическая программа способствовала отказу от флогистики и уменьшению эпистемологической значимости разного рода субстанций и флюидов в физике и в химии. Аналитическая методология повлияла на весь спектр французской науки — на химию Лавуазье, на физиологию Биша, на психиатрию Пинеля и др. [44, с. 187–192, 90, с. 93]. Итак, философия, вопреки Башляру и самому Конту, вовсе не обязательно служит “эпистемологическим препятствием".
Мы можем подвести итоги нашему рассмотрению первого этапа развития историографической концепции Башляра. Во–первых, уже потому, что она в основном формировалась на материале анализа науки XIX в. [47], а весь период классической науки Нового времени и особенно XIX в. характеризуется Башляром как “позитивистский” и в этом плане “контовский” [58, с. 104], историография Башляра в этот период ее развития еще во многом зависит от Конта. Конечно, эпистемология Башляра уже существенно другая. Вместо эмпиризма мы видим “открытый рационализм”. Иначе, чем Конт, понимает Башляр и роль математики в познании. Эти антипозитивистские установки в эпистемологии, конечно, приводят и к новой концепции истории науки (возникновение понятий препятствия и разрыва, антисенсуализм и антиэмпиризм, приводящие к тому, что историчность знания задается как совершенствование рациональности и т.д.). Башляр ясно говорит, что концепция позитивистской (он имеет в виду в первую очередь Маха и Дюгема) теории науки (принцип экономии в теоретическом мышлении, принцип удобства как принцип конструирования теории, вся конвенциалистская теория знания) “была бы скорее солидарна с психологическими ценностями, чем с рациональными, и способная к экономии, она не имела бы никакой силы добывать новое знание. Но историческое исследование, — заключает он, — которое мы провели, никоим образом не позволяет нам ограничиться этими тезисами” [47, с. 158].
Тем не менее, зависимость от позитивизма еще далеко не порвана. Отбрасывая концепции Маха и Дюгема, Башляр, по крайней мере, в своем отношении к Фурье и к науке XIX в., не порывает с Контом. Контовский позитивизм для него был необходим для борьбы с “ретроградными” антинаучными философиями. Поэтому историческая роль Конта оценивается Башляром в целом положительно. Особенно он подчеркивает его роль в организации науки, в создании климата научной строгости, ориентации на математизацию и т.п.
Позитивная оценка Конта, правда, ограничивается периодом классической науки. Позитивизм Конта решительно отвергается Башляром в качестве эпистемологии “нового научного духа” или философии науки XX в. Направление развития историографической концепции Башляра задается, таким образом, все возрастающим разрывом с позитивизмом. Укажем при этом на один только момент: в противовес позитивистской историографии фактографического эмпиризма Башляр выдвигает свою нормативную историографию, создавая концепцию судящей науку прошлого истории. Но перед тем как перейти к анализу этой концепции сделаем еще одно замечание, касающееся связей Башляра с Контом.
В своих вариантах общей периодизации истории науки Башляр вполне сознательно отталкивается от закона трех стадий Конта. У Конта этот закон был общим законом развития всей цивилизации. Прогресс наук, общества, цивилизации сливался у Конта в единый процесс. В такой форме закон трехстадийного развития был заимствован Контом у Тюрго и Сен–Симона (теологическая стадия — метафизическая — позитивная). Анализируя эпистемологию современной физики и химии, Башляр говорит, что “в силу факта современных научных революций можно говорить, в стиле философии Конта, о четвертом периоде, если первые три соответствуют античности, средним векам, новому времени, причем в этом четвертом периоде, соответствующем современной эпохе, окончательно завершается разрыв между обыденным познанием и познанием научным” [58, с. 102]. Введение четвертого периода знаменует собой разрыв с Контом, в том числе и в том, что касается полного разрыва обыденного познания с научным. У Конта, наследующего идеи Просвещения, разум мыслился как однородное и унитарное образование, обыденное познание и научное считались гомогенными, разрыв и противоречие между ними казались ему немыслимыми.
Уточнение контовской концепции трехстадийного развития цивилизации в качестве матрицы для периодизации развития научного духа Башляр проводит уже в своих довоенных работах. Так, в частности, в “Образовании научного духа” (1938 г.) он говорит, что в “своем индивидуальном формообразовании научный дух проходит необходимым образом три состояния, являющиеся гораздо более точными и конкретными, чем контовские формы: 1) конкретное состояние, в котором дух забавляется первичными впечатлениями от явления и опирается на философскую литературу, прославляющую Природу, воспевая сразу и единство мира и свое богатое многообразие, 2) конкретно–абстрактное состояние, в котором дух к физическому опыту присоединяет геометрические схемы и опирается на философию простоты.., 3) абстрактное состояние, в котором дух строит знание (informations), сознательно (volontairement) оторванное от интуиции реального пространства, отделенное от непосредственного опыта и находящееся даже в открытом споре с первичной реальностью, всегда нечистой и неоформленной” [55, с. 8]. И поскольку свою задачу в этой работе Башляр понимает как психоанализ объективного познания, то три состояния духа он дополняет тремя адекватными им состояниями души. Это, соответственно, “светская или ребяческая душа”, одушевленная наивным любопытством, задетая за живое удивлением перед миром, хотя бы в малой степени сконструированном в искусственно подготовленном опыте, душа, ищущая в физике способа развлечься, составить коллекцию и вообще достаточно пассивно себя ведущая даже в ”счастье мыслить”. Второму состоянию духа отвечает душа профессорская, гордая своим догматизмом, неподвижная в своей первично заданной абстракции, всю жизнь стригущая купоны со школьных успехов своей юности, постоянно твердящая о своем знании. Третьему состоянию научного духа отвечает “душа, испытывающая трудности в абстрагировании”, это мучающаяся совесть науки, предоставленная несовершенству опыта, которую все время беспокоит разум с его возражениями, которая постоянно ставит под сомнение право на абстракцию, но в то же время столь уверенная в том, что абстракция и есть сосредоточие научного долга, “чистое обладание мыслительным содержанием мира” [55, с. 9].
В этой форме от контовского закона трех стадий практически уже ничего не остается кроме формальной троичности. Башляр дает психологическую трактовку научного познания, разбирая в качестве стимулов научной деятельности интересы души, причем разные души с разными структурами дают разные виды научной продукции. Последний тип души служит, конечно, моральным и психологическим идеалом, к которому надо стремиться, преодолевая препятствия, таящиеся в душевной деятельности двух первых видов психики. Иными словами, третий вид познающей души является нормой, отвечающей истинно научной рациональности. Башляр говорит, что наша эпоха нуждается в защите научного духа и что такая защита должна быть “нормативной и логически связной” [55, с. 10]. “Любовь к науке, — подчеркивает Башляр, — должна быть самостоятельным (аутогенным) психическим динамизмом” [там же].
Научный дух обладает волей, он сознательно, по своей воле (volontairement), стремится к высшим идеалам научности, которые Башляр обозначает как “абстрактное состояние” духа. Возможно, что характеристика концепции развития науки Башляра как “волюнтаризм” является слишком “сильной”, но она, если ее правильно откомментировать, в принципе достаточно точна. Именно такую характеристику дает Редонди [113, с. 190]. Мы, однако, предпочитаем говорить о психологизме или психо–педагогизме концепции Башляра, в который входит и вся его моральная и нормативистская установка. Однако имеет смысл и термин “волюнтаризм”. Особенно он кажется оправданным в тех случаях, когда Башляр сознательно проводит параллель между своей позицией по отношению к истории и позицией Ницше [62, с. 24]. Но, тем не менее, надо иметь в виду, что у Башляра нет эксплицитно выраженной волюнтаристской онтологии, нет волюнтаризма как философской системы. Именно поэтому мы предпочитаем говорить о психологизме концепции развития науки Башляра.
Контовский закон трех стадий имеет и другие варианты интерпретации у Башляра. Так, например, всю историю науки Башляр в Философии “не” делит на преднаучную стадию, научную и стадию нового научного духа [56, с. 54]. Итак, мы видим, что сама форма вариации на тему контовского закона зависит от контекста, в котором она выступает. Пожалуй, наименее разработана та форма трех(или четырех)–стадийной периодизации развития науки в целом, которая берет за основу периоды гражданской истории — античность, средние века, новое время. Башляр выбирает более абстрактные схемы, что, кстати, еще раз показывает, что его историзм является весьма ограниченным и что его интересует не столько историческая реконструкция прошлого знания, сколько прогресс знания, его направленная на современность эволюция, телеономное движение к идеалу абстрактного математизированного знания.
3. Вторая стадия развития историографической
концепции
У Конта история цивилизации и история науки практически совпадают. У Башляра же между историей гражданской и историей науки — разрыв, полное расхождение: “Дух имеет изменчивую структуру, начиная с того момента, как познание становится историчным. Действительно, человеческая история в своих страстях, предрассудках, во всем том, что обнаруживает непосредственные импульсы, без труда может начинаться вновь, но есть мысли, которые вновь не начинаются, это — исправленные, расширенные, дополненные мысли. Они не возвращаются к своему узкому и шаткому истоку. Итак, научный дух — существенным образом расширение рамок познания. Он судит свое историческое прошлое, вынося ему приговор. Его структуры — осознание его исторических ошибок. Научно говоря, истинное мыслимо как историческое исправление долгоживущей ошибки, опыт мыслится как разоблачение первичной иллюзии здравого смысла. Вся интеллектуальная жизнь науки диалектически разыгрывается на этом дифференциале познания, на границе с неизвестным. Саму суть рефлексии составляет понимание того, что ранее имелось непонимание. Не–бэконовские, не–евклидовские, не–картезианские мысли резюмируются в этой исторической диалектике, представляющей собой исправление ошибки, расширение системы, дополнение мышления” [52, с. 173]. Мы процитировали работу Башляра 1934 г. с тем, чтобы показать, что концепция истории науки сложилась у него еще задолго до его доклада “Актуальность истории науки” (1951 г.) и что в ее основе лежала теория приближенного познания с выработанным в ее рамках представлением об исправлении ошибки [59]. Механизм развития науки, по Башляру, это — рефлексия, осознание прошлого, его осуждение, выправление его ошибок, его “дополнение” и “расширение”. Механизм развития науки, таким образом, это внутренний процесс, познание познания, познание, в частности, того, что в познании не все было познанием, понимание того, что в том, что считалось пониманием, было и не–понимание. Такая схема развития называется философом диалектикой и нетрудно видеть, что она действительно напоминает гегелевскую диалектику (впрочем, их различие также несомненно).
Какие же моменты мы усматриваем в этом наброске теории истории науки? Во–первых, тезис об абсолютном прогрессе, характерном для истории науки в отличие от гражданской истории, в которой процесс может начаться заново, придти к своему истоку. Этим приписыванием прогресса исключительно науке — ни в обществе, ни в искусстве, ни в политике Башляр не усматривает безусловного прогресса — его историографическая концепция отличается от контовской. Итак, прогресс — первая характеристика истории науки. Башляр даже считает, что о прогрессе общества (о прогрессе вообще) заговорили только тогда, когда обнаружился прогресс в науках, т.е. с XVIII в. “В познании прогресс, — говорит Башляр, — очевиден, определен. Можно даже сказать, что само понятие человеческого прогресса вошло в цивилизацию именно тогда, когда стал очевидным прогресс наук — начиная с XVIII в.” [58, с. 104]. Башляр считает, что наука прогрессирует, выправляя свои ошибки, совершенствуя понятия и этот процесс в принципе необратим. Ошибки не могут вернуться — на их пути стоит научное сообщество, “град ученых”, создающий гарантии запрета на возврат старого и отброшенного. Так, например, в новом понятии световой корпускулы нет возврата к ньютоновскому корпускуляризму. “Выправленные мысли, — подчеркивает Башляр, — никогда не возвращаются к исходной точке движения” [58, с. 93]. С необратимостью научного прогресса, с его жесткой однонаправленностью во времени связано и то обстоятельство, что в современной науке и отрицательные результаты имеют смысл. Примером может служить опыт Майкельсона, не засвидетельствовавший наличия эфира, но, тем не менее, давший базу для продвижения вперед. Радикальному поражению нет места в науке. Впрочем, как и радикальному успеху. И именно поэтому наука движется только вперед, и иначе она не может развиваться, считает эпистемолог. “Наука, — говорит Башляр, — начиная с тех пор, как она конституировалась, не совершает регрессивных движений. Изменения ее строения суть обоснованные и необходимые прогрессивные изменения... Если пробежать по истории рациональной культуры, то возникает впечатление, что один разум вытесняется другим, лучшим” [58, с. 31].
В процитированном нами выше тексте из “Нового научного духа” мы находим все основные компоненты башляровской концепции истории науки. Так, мы обнаруживаем здесь и понятие препятствия, стоящее на стороне здравого смысла, и понятие разрыва, проступающее в представлении о необратимости исправления ошибок в не–евклидовых мыслях, в не–картезианских суждениях и т.п., т.е. во всем спектре “не”–утверждений. И наконец, мы обнаруживаем идею о нормативности исторической саморефлексии науки. Научный дух, — говорит эпистемолог, — “судит свое историческое прошлое”. Это приводит к тому, что вся история делится на историю “принятую” или, как скажет Башляр впоследствии, “санкционированную” и на историю “осужденную” или “устаревшую”. Важно подчеркнуть, что сама эта грань, возникающая в установке на оценку прошлого знания, мыслится Башляром абсолютной: никакой позитивности в ошибке он не усматривает, никакой “санкционированной” истории не предполагается в истории “устаревшей”. На наш взгляд, здесь проявляется своеобразная педагогическая матрица, лежащая у Башляра в основе его конструирования теории развития науки. Ошибка творческая для него не более, чем ошибка ученика — она столь же предназначена только для отбрасывания, для осуждения. В результате башляровская диалектика истории конституируется через метафизику ошибки: структура научного духа задана “осознанием его исторических ошибок” [там же].
В послевоенные годы перед Башляром во весь рост встал феномен волновой механики, основы которой были созданы Луи де Бройлем. Башляр считал, что все виды современных механик (релятивистская, квантовая, волновая) — науки без “предков” [62, с. 23–24]. Отметим, что такой вывод фиксирует позицию Башляра–эпистемолога, а не историка науки. Историк всегда ищет какие–то преемственности, каких–то предшественников. Впрочем, так мыслит и ученый, когда он занят исторической преамбулой своих научных достижений. Кстати, сам де Бройль писал, что у него был “истинный предшественник”, а именно — Марсель Бриллюен [14, с. 237–238]. При разборе этого вопроса надо иметь в виду, что тема предшественника пересекается с темой приоритета и, более широко, вклада в науку, совершенного тем или иным ученым. В данном случае на зависимость идей де Бройля от работ М.Бриллюена указал сын последнего, Л.Н.Бриллюен [14, с. 237]. Башляр стоит в стороне от этой типичной для историка проблематики. Главной проблемой разработки концепции истории науки для него является проблема актуальности прошлых идей и теорий — проблема их действенности в современной науке.
Критерий эффективности в системе современной науки при его применении к истории приводит к четкому дихотомированию ее на историю истин и историю заблуждений, историю “санкционированную” и историю “устаревшую”, на историю “плодотворную” и “вредоносную”, “активную” и “инертную”, “позитивную” и “негативную”. Существенным элементом концепции истории является также и различение истории “чистой” (pure) и истории “понятой” (comprise). “Чистая” история — история историков, история, остающаяся чуждой суждению о прошлом с точки зрения современной науки. Башляр присоединяется к суждению Ницше (“лишь исходя из самой мощной силы настоящего, должно истолковываться прошлое”), считая его полностью справедливым и для истории науки. “Мощная сила настоящего” — это современная наука, которая и может и, более того, должна судить прошлое. История “чистая”, которую Башляр допускает скорее для гражданской истории, чем для истории науки, является историей “без суждения” (non–jugée), и ей противостоит история “судимая” (jugée). В конце концов, обе истории, представленные выше перечисленными определениями, определяются как история–story и иcтория–history*, причем вторая есть история “чистая”, “без суждения”, иными словами, нарративная история, история–рассказ, а первая — история “судимая” в которой благодаря оценке возникают история “истин” и история “заблуждений”, санкционированная и устаревшая истории, соответственно.
Эти различения позволяют их обобщить в понятии “рекуррентной истории”. “История, которая освещена финализмом настоящего, исходит от очевидностей актуально данной науки и открывает в прошлом прогрессивные формообразования истины” и есть рекуррентная история [62, с. 26]. Рекуррентная история прежде всего находит себе место в исторических преамбулах, предваряющих современные научные работы. Собственно говоря из образа такой преамбулы и вырастает образ башляровской историографии науки. Флогистика — пример устаревшей истории, а открытие Блеком понятия удельной теплоемкости — пример санкционированной истории, элемент рекуррентной истории. Автор современной теории теплофизики должен, если он пишет об основных понятиях своей науки, упомянуть в исторической преамбуле Блека. Он навсегда входит в состав науки, это — момент абсолютной истины, считает Башляр.
Такие понятия, как удельная теплоемкость, Башляр считает базовыми, достигшими такого уровня рациональной зрелости, что по поводу них обоснованное сомнение уже невозможно и что поэтому они навсегда остаются в науке. Тем самым такого рода понятия протягивают нити преемственности в дисконтинуальной истории науки, образуя момент непрерывности в структуре научного развития. Так тема дисконтинуальности дополняется у Башляра темой непрерывности.
Кстати, в своем анализе истории волновой механики Башляр раскрывает и прерывность (разрыв) и преемственность (непрерывность). Волновая механика — наука без предшественников, “без предков”, тем самым образец полного разрыва с прошлым знанием, в частности, с античной атомистикой. Но, с другой стороны, волновая механика представляет собой исторический [62, с. 24] и культурный синтез многих веков развития науки [62, с. 21], соединяющий в себе основные теории прошлого (теории Ньютона и Френеля, корпускулярную и волновую традиции в истолковании природы света) в новой эстетически значимой комбинации, в новых условиях теоретического и экспериментального развития. В этом тезисе о синтезе Башляр отмечает своего рода закон отрицания отрицания в развитии науки: прошлое воспроизводится на качественно новом уровне развития. И уже поэтому “длинная историческая преамбула” необходима для понимания смысла волновой механики: для оценки ее значения. И в этом — оправдание и актуальность истории науки и ее значение для современности.
Диалектике “санкционированной” и “устаревшей” историй отвечают на эпистемологическом уровне понятия “акт — препятствие”. Понятие препятствия мы уже рассмотрели. Понятие эпистемологического акта впервые вводится Башляром в связи с концепцией рекуррентной истории. “Понятие эпистемологического акта, — говорит Башляр, — которое мы сегодня выдвигаем в противовес понятию об эпистемологических препятствиях, отвечает тем скачкам научного гения, которые вносят неожиданные импульсы в ход развития науки” [62, с. 25]. Система эпистемологических актов задает позитивное начало в развитии науки и образует основу для контроля над научной деятельностью со стороны научного сообщества. Этот контроль сводится к недопущению ошибок или препятствий, образующих негативный полюс в развитии знаний. Используя понятия эпистемологических актов и препятствий, развитие науки по Башляру можно представить схематически так:
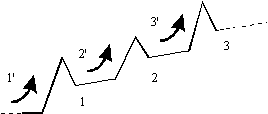
1,2,3,... эпистемологические препятствия (устаревшая история)
1',2',3',... эпистемологические акты (санкционированная история)
Схема № 3. Развитие науки по Башляру
Санкционированная история — это актуальное прошлое, действующее в современной науке. Устаревшая история — то прошлое, которому, по Башляру, нет места в современной науке и интерес к нему — чисто исторический (ученый может обращаться к препятствиям только с целью заградить доступ для них в современную научную культуру).
Понятие эпистемологического акта выявляется более конкретно, если рассмотреть представление Башляра о “событиях разума” [58, с. 44]. “История науки, — говорит эпистемолог, — кишит событиями разума, теми фактами, которые заставляют рациональную организацию опыта переконституироваться” [там же]. К событиям разума Башляр относит теоретические сдвиги, изменение содержания понятий, усовершенствование экспериментальной техники и т.д. В отличие от новых идей в философии эти моменты в науке, считает Башляр, обладают как своей специфической чертой способностью к рациональной коммуникации: “Они свидетельствуют о своей рациональности своим интерпсихологизмом, так как освобождают других от их ошибок или же другие освобождают от ошибок нас благодаря этим событиям разума” [58, с. 44]. Таким образом, по Башляру, эти события суть события “я–ты”–отношения. И этот “я–ты”–статус позитивной истории, подлинного знания отличает, по Башляру, эпистемологический акт от эпистемологического препятствия, носящего печать индивидуализма, субъективизма, сенсуалистического релятивизма. Событиями разума выступают и волновая механика, и квантовая механика, и теория относительности [58, с. 45]. Мощным событием разума является “научная революция” [там же].
4. Пределы историографической концепции
Башляра
Концепция истории науки Башляра сочетает в себе “откровенный модернизм” (franc modernisme [62, с. 23]) и аксиологический рационализм. Модернизм и аксиологизм — основы этой концепции, как и принцип абсолютного прогресса применительно к науке, отличающий ее от всех остальных сфер деятельности человека. Если мы отметим в понятийном составе этой концепции понятия разрыва и препятствия, то получим все основные моменты историографического мышления Башляра. История науки фактически приравнивается к истории современной науки, так как только те формы, которые воплощают преемственность истин, оцениваемых по современному уровню знаний, входят в состав позитивной истории и достойны внимания историка, мыслящего эпистемологически. Наличие другого историка (историка–палеонтолога вымерших истин, коллекционера заблуждений) Башляр предусматривает, но не наделяет его никакими позитивными функциями в научном сообществе, если не считать того, что он свои исторические анализы может поставить на службу “психоанализу объективного познания”, предназначенному для недопущения в современную науку “монстров” прошлого.
Моделями идеальной, эпистемологически поставленной истории служат для Башляра, как мы уже отметили, историческая преамбула (обзор в современных научных трудах), а также история математики. Если математика для Башляра — образец научной рациональности, то история математики — образец исторической рациональности. Лучший пример научного прогресса Башляр видит именно в истории математики. Здесь сама безупречность научной рациональности препятствует тому, чтобы развитие этой науки носило хотя бы след не–рациональности (роста несистематичности, например). “Здесь, очевидно, — говорит эпистемолог, — нельзя описывать упадок, так как он тут же будет ошибкой. Если бы история науки описывала ошибки, которые могли бы делаться после открытия математических истин, то она была бы историей плохих учеников в математике, а не историей подлинных математиков. Такая история оставила бы поприще позитивной истории” [59, с. 141]. Вот как он формулирует абсолютную дилемму истории: “История науки стоит перед фактом абсолютного роста. Или она описывает этот рост, или ей просто нечего сказать” [там же]. Историей с абсолютным ростом и выступает для Башляра история математики, которая поэтому является для него образцом истории знания.
Идеи Башляра об особом положении математики и ее истории среди других наук разделили вслед за ним и такие эпистемологи и историки, как Серр и Фуко. Математика, по Фуко, уже в античности достигает порога формализации и тем самым является эпистемологически гомогенным образованием по отношению к современному состоянию этой науки. Иными словами, математические знания как бы сами собой входят в состав их современного свода независимо от того, в какой исторический момент они возникают. Однако именно поэтому история математики, как считает Фуко в противовес Башляру, не может служить моделью для истории других наук [84, с. 246].
Математика рассматривается Башляром достигшей норм рациональной зрелости уже в очень ранний период. В математике, считает Башляр, особенно ярко проявляется действие “рекуррентного света”, отбрасываемого настоящим на прошлое. Теорема Брианшона, открытая в XIX в., позволяет лучше понять знаменитую “мистическую гексаграмму” Паскаля (1640 г.)*. И понимаемая благодаря дуальной паре (Брианшон–Паскаль) эта гексаграмма удваивает свою значимость [59, с. 142]. “Этот рекуррентный свет, — говорит Башляр, — который так четко действует в гармоническом развитии математического мышления, может оказаться гораздо менее четким при фиксации исторических значений в других областях науки, например, в физике или в химии” [там же, с. 142]. Поэтому история математики и выступает в качестве образца “рекуррентной истории”, истории позитивных истин, накапливаемых в ходе прогресса познания, которые, хотя и возникли в прошлом, хранят свою актуальность. И если в истории математики этот процесс рекурсии, т.е. высвечивания прошлого знания светом современного, не приводит к эпистемологическим передержкам, то в других науках такие процедуры нередко приводят к грубой модернизации. И такие рекурсии Башляр отвергает.
Один из примеров такой грубой модернизации он подробно разбирает. Это получение коллоидального золота Ланжело в 1672 г. Гулевинь, историк науки, написал об этих опытах, в результате которых ученый, пытаясь растворить золото, получил его тончайшую суспензию, образовавшую устойчивый коллоидный раствор красного цвета [59, с. 143]. И Гулевинь торжественно объявляет Ланжело первооткрывателем металлических коллоидов, обогнавшим Бредига на 250 лет. Но, комментирует Башляр этот текст, используя его интерпретацию Брюнсвиком, “это открытие существует только для нас, а не для ученых того времени. Действительно, нельзя сказать, что нечто знают, когда это нечто создают, но при этом не знают, что же именно создают” [59, с. 143]. Знания нет без его адекватного осознания и способности его преподавать. Очевидно, Ланжело ничего не мог сказать о коллоидной химии металлов, в то время как Бредиг мог объяснить свои опыты в адекватной форме.
Этот момент Башляр отмечает как очень важный для истории науки. “Нужен подлинный такт, — говорит он, — чтобы манипулировать с рекурсиями. Но остается необходимым историю разворачивания фактов дублировать историей развертывания значений (фактов — вст. наша — В.В.)” [там же]. Естественно, что знание господствующих в современной науке “значений” представляет собой ключ к суждениям о прошлом: “Исходя из истин, которые современная наука сделала более ясными и лучше упорядоченными, прошлое истины обнаруживается с большей ясностью как прогресс в качестве самого прошлого” [59, с. 142]. Будущее — ключ к пониманию прошлого, точнее, настоящее, являющееся будущим для этого прошлого. “Драма великих открытий, — говорит Башляр, — изучается нами с той большей легкостью, что мы присутствуем при ее пятом акте” [там же].
Однако, настоящее состояние науки на самом деле вовсе не абсолютная развязка всех исторических драм познания. И Башляр знает об этом. В этом коренится основная слабость презентистской концепции. Он признает эту трудность и считает свою позицию “трудной и опасной” [59, с. 144]. Сама современность науки носит эфемерный характер и в этом — зыбкость всей презентоцентристской концепции истории науки. Сознавая эту трудность, он, однако, достаточно просто от нее отделывается. “Я предлагаю, — говорит эпистемолог, — модернистский идеал для истории науки (l'idéal de tension moderniste), но это значит, что история науки должна часто переписываться заново. И именно эта ориентация на современность делает историю науки всегда самой живой и поучительной из всех научных доктрин” [59, с. 144]. Иными словами, история науки вынуждена все время перестраивать себя заново, учитывая новое состояние науки.
Башляр обращается к истории науки и находит в ней (можно сказать, что он пытается эмпирико–исторически оправдать свою концепцию) подтверждения основных положений своей концепции. В частности, он стремится показать, что историческая рефлексия науки со стороны самой науки (а это и есть, собственно говоря, база истории науки по Башляру) всегда была “судящей”, а история тем самым всегда была “судимой” (juge). Иными словами, ученый, выступая в роли историка, всегда судил прошлое, отталкиваясь от современного ему знания. Так Башляр пытается оправдать свой нормативизм ссылкой на историю истории науки — историки науки всегда оценивали и судили прошлое знание. Правда, мы скажем, историки в таких случаях выступали скорее как ученые, чем как историки. Но Башляра это замечание вряд ли задевает, так как для него в принципе между наукой и историей нет границы, раз история есть познание истины во времени и входит тем самым в науку и имеет смысл только в ее рамках. Подчеркнем, для Башляра история науки не представляет никакой самостоятельной ценности, она не есть автономная дисциплина, независимая от самой науки. История науки оправдана и имеет смысл только как часть науки, как ее историческая преамбула и не более того. Такие преамбулы входят в состав собственно научных трудов. Точно так же входит в науку и сама история. Башляр игнорирует все прочие аспекты истории науки, которые делают из нее самостоятельную дисциплину, имеющую свои особые функции в культуре, в гуманитарном знании и т.п. Все, что не входит в парадигму преамбулы, он называет несколько свысока, с позиции своего “откровенного модернизма”, “устаревшей историей” и напрочь отбрасывает. Тем более, что для развития знания характерна, говорит он, решительная “ликвидация прошлого”, обнаруживаемая в научных революциях [59, с. 140].
Другой момент, который здесь существен, состоит в том, что Башляр считает, что его модернистская или модернизаторская позиция в полной мере отвечает только науке XIX и XX вв., когда наука обрела дисциплинарный ритм, строгие каноны, гарантии надежной защиты против возврата к любым проявлениям преднаучной ментальности благодаря сложившимся психологическим нормам, носителем которых выступает, по Башляру, научное сообщество (“град ученых”). Эти два момента (нормативность истории науки и ее модернизм, оправданный только для науки XIX — XX вв.) он демонстрирует на примере рефлексии швейцарским физиком конца XVIII в. Жаном Инген–Хаусом открытия пороха [59, с. 144–146]. Инген–Хаус пытается рационализировать (и модернизировать) открытие пороха — смесь селитры, угля и серы обладает свойством взрываться при определенной детонации. Используя понятия новейшей для его времени химии Лавуазье, ученый пытается показать, что то, что раньше было сделано чисто эмпирически, случайно, теперь могло бы быть сделано сознательно, что порох можно было бы “спроектировать”, рационально построив его состав в уме, и только затем обратиться к опыту. Но эта рационализация — частична, несовершенна, оказывается грубой “рекурсией”, так как, уже с современной точки зрения, ученый явно преувеличивает возможности науки своего времени. Но Башляру важен сам факт: история науки судит свое прошлое, история есть не более, чем сама наука, повернутая только назад, но при этом мыслящая всецело в современных научных понятиях. История науки, по Башляру, это “усилие понять, модернизируя” [59, с. 146], и только иногда эта модернизация бывает “преждевременной”, но и в этом случае она оправдана, ибо другого пути для истории науки, как считает эпистемолог, нет.
Из своего экскурса в историю истории науки Башляр делает такой вывод: “Представляет определенный интерес проследить эту историю истории науки, эту историю науки, начинающую рефлектировать о самой себе, эту историю всегда размышляющую, всегда начинающуюся заново” [59, с. 146]*. История науки, по Башляру, — самосознание науки как науки, как объективного знания, и уже поэтому она есть рационализация прошлого через его модернизацию. На историю науки могут влиять события в политической истории, упадок цивилизации и т.п. Но все эти события, говорит Башляр, совершенно внешни самой науке, и поэтому не могут входить и в ее историю [59, с. 139].
В защите своего образа истории науки, отвлеченного от всякой социальной и культурной истории, образа сугубо интерналистского, Башляр прибегает к чисто эмпирической аргументации. “Если вы мне станете возражать, — рассуждает эпистемолог, признавая, что события гражданской истории могут, например, затормозить прогресс науки, — что это различение (различение того, что принадлежит истории науки в собственном смысле слова, и того, что к ней не относится — вст. наша — В.В.) является искусственным, если вы скажете, что оно стремится обесплотить научное мышление, лишая его воздействия на людей, живущих в некоторой стране и в определенную эпоху, то я просто сошлюсь на факты, как они существуют, сошлюсь на историческую культуру, как она есть. Откройте неважно какую книгу по истории науки — будь то элементарную или самую ученую — и вы увидите, что постоянным и значимым фактом является следующий: история науки всегда описывается как история прогресса познания. Она заставляет читателя пройти от состояния, когда знали мало, к состоянию, когда знают больше, и никогда в обратном порядке” [59, с. 139–140].
История науки, таким образом, есть “история прогресса рациональных связей знания” [59, с. 146]. Как это понимать? Именно с этой лаконичной и выражающей суть историографической концепции Башляра формулой связан его рационалистический аксиологизм, который, наряду с модернизмом или презентизмом, характеризует основные черты его концепции. В истории науки действуют нелинейно нарастающие рациональные факторы, ведущие к усовершенствованию, улучшению рациональной организации знания, проникновению рациональных структур в познаваемый объект. Математика — не язык, научные теории — не эквивалентны друг другу, как склонен считать скептицизм дюгемовского толка, критикуемый Башляром. Математика — содержательное предметное мышление, а научные теории отличаются по степени их объективности и рациональности. Оценки же этих степеней, критерии рациональности, нормы научности задаются самим разумом, и утверждаются его волей, локализованной в научных сообществах специалистов. Эти нормы разума действуют как своего рода “аттракторы” эволюции науки. В их состав входят “рациональные ценности”, “ценности истины”. “И чем ближе мы приближаемся к нашему веку, — говорит эпистемолог, — тем яснее чувствуем, что рациональные ценности ведут науку” [59, с. 147]. И именно поэтому история науки не может быть простой эмпирической историей. “Акты Академий, — говорит Башляр, — естественно содержат большой материал по истории науки, но эти акты не образуют в действительности подлинной истории науки. Необходимо, чтобы в этом материале историк науки прочертил линии прогресса” [там же, с. 141–142].
Разум, высший психизм, считает Башляр, знает свои высшие ценности, свои нормы и ведет науку, сообразуясь с ними, препятствуя тому, что этим нормам и ценностям не соответствует, ставя на пути препятствий мощный заслон, который в современной науке настолько эффективен, что в ней невозможен никакой регресс. История науки, таким образом, предстает как телеономный аксиологически ведомый разумом процесс, имеющий одно направление, один центр притяжения. Суть аксиологического видения истории науки выражена Башляром в таких словах: “В судьбе науки рациональные ценности утверждают себя сами (s'imposent). Они утверждают себя исторически. История науки ведома своего рода автономной необходимостью. Философия науки должна считать своей задачей систематически определять и классифицировать в иерархии эпистемологические ценности. Общие дискуссии о ценности науки — тщетны, если не видят, что любая научная мысль приводит в движение (sensibilise) психическую ценность самого высочайшего уровня” [62, с. 47–48].
Движение самоутверждения высочайших психических, интеллектуальных, рациональных ценностей и есть стержень научной эволюции, сущность историко–научного процесса, глубоко лежащего в плане самой судьбы человека. Этот последний момент — пересечение судьбы человека с судьбой науки — особенно важен для Башляра. Его, пусть и в другой форме, мы найдем и у философов–эпистемологов, примыкающих к традиции Башляра (в частности, у Фуко). Но пока нам важно реконструировать рационалистическую аксиологию Башляра, которую он противопоставляет скептицизму конценциалистской философии науки в духе Дюгема или Пуанкаре. Конвенциализм отвергается Башляром, так как не учитывает, как считает эпистемолог, дифференциацию эпистемологических значений знания. Иными словами, он проходит мимо того, что научные теории являются не просто “экономными”, “простыми”, “эффективными” по отношению к эмпирическому базису, но выражают суть объекта, образуя ступени приближения к объективной истине и поэтому могут и должны оцениваться и принимать при этом различные эпистемологические значения. Теории, считает Башляр (и в этой критике правота на его стороне), обладают разными эпистемологическими ценностями. И задача историка науки указать на те теории, которые обладают более высокой эпистемологической ценностью. Так историк включается в процесс прогрессивного движения науки.
Башляр в своей аксиологии следует за Пуанкаре, который, может быть, первым заговорил о ценности в применении к науке, но эта попытка, как справедливо отмечает Редонди, была тщетной, так как он стремился оградить науку от скептицизма с помощью конвенциализма [113, с. 194]. “Башляр, — пишет исследователь, — был один из немногих, кто, защищая необходимость философии, воодушевленной научным познанием, разоблачал культурную роль, которую, желая того или нет, выполнял конвенциализм” [113, с. 194]. Башляр отверг и историографию конвенциализма, представленную Дюгемом, крупным историком науки. Эта историография базировалась на самом широком и некритическом применении представления о предшественниках и представляла собой типичный образец континуалистской историографии. Но метод или принцип предшественника (установка на его поиск) на самом деле (и вопреки традиционной вере в прогресс) подрывал тезис о познавательном прогрессе: вклад великих преобразователей науки низводился при этом до уровня простого “продолжения” идей их предшественников. Поэтому дисконтинуализм Башляра был способом действительно всерьез принять схему прогресса в истории науки. Прогресс, его необратимость, его глубина — все эти моменты опосредованы у Башляра его представлением о разрывах, с одной стороны, и, с другой, его концепцией “рекуррентной истории”, его представлением о значимости оценок в истории науки (история науки есть познание истины и поэтому в ней должны действовать “эпистемологические оценки”, а не просто методологические, сводящиеся к ценностям “простоты”, “экономности” и т.п.).
Идея прогресса действительно доминирует в концепции истории науки Башляра. И она, по сути дела, даже уменьшает значение его представления о разрывном характере развития знания.
“Современная история, — говорит Башляр, — воспроизводит то же самое приближение к рациональности, что и процесс прогресса науки, развивающийся медленно в более ранней истории” [59, с. 147]. Предмет историографии науки, по Башляру, это — прогресс, более медленный в ранней истории и ускоряющийся при ее приближении к современному этапу развития знания. Единственным отличием различных эпох развития науки выступает, таким образом, скорость прогресса науки. Со временем она увеличивается и именно к этому сводится по существу вся телеономия историко–научного процесса. Очевидно, что в таком представлении дисконтинуализм развития науки отступает на задний план. И действительно, в своей лекции об актуальности истории науки Башляр считает основными понятиями своей историографической концепции именно понятия прогресса и препятствия, а не разрыва, поскольку препятствие определяется как раз как препятствие прогрессу. Но это вовсе не означает, что понятие разрыва утрачивает свою значимость. Относительная его “затененность” в этой лекции, возможно, обусловлена ее популярным характером, педагогическими целями. Ведь, как известно, педагоги всегда преувеличивают непрерывность в развитии науки, так как с разрывами трудно работать педагогически.
Вторую часть своей лекции Башляр посвятил культурным аспектам истории науки. История науки помимо своей чисто научной — и главной — функции имеет еще и другие функции. В частности, считает Башляр, она должна поддерживать высокий престиж науки, ее ценностей, ее идеалов и т.п., служить задачам поддержания ее авторитета среди молодежи. История науки должна вписывать науку в общую культуру, создавать привлекательные образы ученых–новаторов, поддерживать своего рода легенды о великих гениях науки. Башляр допускает в педагогических целях упрощение реальной истории, ее схематизацию. Он считает, что легенда — “история столь же верная, сколь и лживая, как и всякая другая история” (слова Гюго, сказанные им о Шекспире) и поэтому она вполне допустима в истории науки культурного и педагогического, а не научного назначения. Этого “либерального” отношения к историко–научным легендам мы не найдем у таких последователей Башляра, как, например, Фуко. Фуко решительно порывает с психологизмом и педагогизмом Башляра, с его сциентистским прогрессизмом и уже поэтому он столь критичен по отношению к легендам истории науки, стараясь всячески разоблачить ее мифы (например, миф о Пинеле*).
Заключение
Выскажем, заключая нашу работу, некоторые общие замечания, касающиеся нашего понимания эпистемологического творчества Башляра в целом.
Башляр — героический рационалист, даже “сюррационалист” [67]. В этом пафосе разума — самого точного, самого абстрактного, математически ориентированного и динамического — он, безусловно, принадлежит к традиции французского рационализма от Декарта до Брюнсвика. Нетрудно видеть в этом героическом рационализме и продолжение традиции Просвещения с его культом разума и прогресса, ядром которого является именно прогресс науки.
Башляр–эпистемолог — сциентоцентрист, а не просто сциентист. На то указывает не только его пророческий, почти иератический тон, когда он говорит о науке. Башляр зовет к новому — открытому — рационализму, к динамическому научному духу. Он готов даже провозгласить его грядущую эпоху в качестве нового всемирного “эона”, дополнив в духе закона трех стадий Конта его знаменитую трехчленку четвертым периодом — периодом нового научного духа. Пророческий пафос Башляра направлен на провозглашение конца ветхого рационального Адама (еще весьма не–рационального и именно потому и ветхого) и приход в будущем Адама нового — поистине и до конца рационального. Ясно, что при таких интенциях мысли, при такой водораздельной “гидрографии” мыслегенеза (мы используем здесь представление Павла Флоренского о “водоразделах мысли”) никакой презумпции Бога, высшего Блага, сверхразумного Абсолюта у Башляра нет. Кажется, что повышенный градус динамизма и открытости земного разума ему их вполне заменяет. По крайней мере, его эпистемологические труды (а их он написал немалое количество) упорно молчат об этом. И молчание это характерно.
Сциентоцентризм и гуманизм Башляра очевидны. Эрик Вейл справедливо, как нам кажется, подчеркнул, что тезис Башляра о “гуманизме науки” является, по сути дела, тезисом веры, а не науки [103, с. 181–182]. Башляр действительно был свободен от “теплохладного” отношения к науке, он в нее верил. “Наука, — говорил он, — приносит благо психике”, “наука — сама по себе ценность, ценность психическая” [103, с. 182]. Башляр в этих суждениях, нет, в этих верованиях своих предстает перед нами наивным энтузиастом науки, вечным автодидактом*. Но разве можно без краешка улыбки, спросит иной его читатель, читать у серьезного мыслителя такие пассажи, в которых говорится, что регулярность науки лечит душу, что ученые живут очень долго, что “познание оживляет психику”, что научное изучение вещей динамизирует наш психизм и т.п.? Кажется, что наивностям великого философа нет конца. Но я бы порекомендовал отнестись к его словам вполне серьезно, хотя бы уже только потому, что речь идет здесь действительно о вере, а она, как известно, “двигает горы”.
Мы сказали о вере Башляра в Науку. А его вера в Прогресс? Его прогрессистская вера, конечно, может выглядеть старомодной и уступать в привлекательности и, возможно, в глубине осторожному скепсису Э.Вейля, не приемлющего ни догм прогрессизма, ни догм сциентизма. Вера в Науку и вера в Прогресс связаны у Башляра воедино: наука — сердце или, лучше, мотор всякого прогресса. Согласно башляровской сцинетоцентристской установке познанное — значит автоматически гуманизированное, очеловеченное. Для Башляра альфа и омега “очеловечивания” мира — его рациональное познание. Он прямо, без всяких разъяснений, заявляет, что “современная наука — это и есть гуманизм” [61, с. 26]. Но это не так. Или, точнее, не совсем так. Познание, быть может, только начало, только первый шаг “очеловечивания” мира, даже, быть может, не самый главный. В конце концов, настоящее “очеловечивание” его немыслимо без его “обожения”. Вот это осталось закрытым для “открытого рационализма” Башляра.
Итак, сциентоцентризм. Наука — благо–в–себе, т.е. своего рода алхимическая панацея, “эликсир жизни”. Если в философии Бергсона основу бытия образует иррациональный жизненный порыв, то за кадром эпистемологии Башляра, на самых “водораздельных” высотах его латентной метафизики (явно выраженной метафизики он нам не оставил) стоит рациональный порыв, высший динамизм разума, некое самоалчущее познание, всегда ненасытное и неудовлетворенное собой. Мы сравнили Башляра с Бергсоном неслучайно. Во Франции между двух войн (период пика творческой активности Башляра) философия Бергсона была, пожалуй, самой мощной интеллектуальной доминантой в мире умозрений. Башляр не раз вступал с ней в спор. Но, как мы видим, его эпистемологический “миф”, как вывороченная наизнанку перчатка, напоминает метафизику творческой эволюции Бергсона: только на место ир–рационального порыва следует поставить порыв рациональный.
Выше и дальше разума Башляр не идет и идти не хочет. Душа и разум — это, кажется, его последние антропологические и онтологические реальности. Да, еще, конечно, природа. Душа, разум, природа. С разумом связано все его творчество как философа науки. С природой — его эстетика “материального воображения”, поэтика стихий. С душой же связан весь его психологизм, который не просто “приписывают” ему его строптивые последователи–структуралисты, но который ему действительно присущ (относиться же к этому можно по–разному). Действительно, весь средний период деятельности Башляра–эпистемолога проходит под знаком увлечения психоанализом [55].
Башляр — философ науки. Для него живое, подлинное познание воплощалось в современной науке, в лабораториях, в спорах теоретиков. Профессорская же философия всегда казалась ему склеротически застывшей традицией, своего рода новой схоластикой (схоластику и Аристотеля он вряд ли бы мог реабилитировать, как это в какой–то мере произошло в современной научной методологии). Подчеркнуто резкое отталкивание от всех бывших тогда на виду концепций науки характеризует все творчество Башляра–эпистемолога. Объектом его критики выступает и прагматизм, и конвенциализм, и все виды спиритуализма, и бергсонианство, и, наконец, экзистенциализм. Рецепцией (и то временной) отмечены, пожалуй, только феноменология и психоанализ (не говоря о работах Рея, Брюнсвика и ряда близких ему философов и ученых, как Гонсет, Дюпреель, Детуш и др.). Башляр всегда считал, что новые онтологии и метафизики предчувствуются и приоткрываются именно в науке, прежде всего в великих деяниях научной революции XX в. Именно этим феноменом он был глубоко потрясен, изумлен, очарован. И поэтому вовсе неудивительно, что осмысление научной революции стало его основной философской задачей. В соответствии с классической формулой Стагирита об удивлении как источнике философского поиска это изумление и этот восторг перед чудом новейшей науки и рождали его эпистемологические конструкции.
Итак, наука — центр его философствования. Неудивительно, что при такой конфигурации “водораздельных” ориентиров мысли в его построениях мы не найдем ясно артикулированной метафизики. Системы у него нет. В его построениях немало противоречий, незавершенностей, попыток и начинаний. Но это составляет как раз, на наш взгляд, его привлекательную черту. Незавершено бытие (оно — становление), незавершена наука, продолжаются искусство и жизнь. Как можно в таком случае говорить о метафизической цельности? Как можно при таком мировом положении дел претендовать на замкнутую систему мысли?
Богатые, сложные фигуры в истории мысли не могут не давать козырей полемистам из соперничающих школ и направлений. Башляр — из их числа. Так, например, он горячо выступает против гносеологической робинзонады. Выдвигая идею коллективного творчества в науке, он много говорит о “граде ученых”, в котором делается наука. Для него солипсизм — абсолютное ничтожество мысли, тупик по определению. Но, увы, его идеи о “граде ученых” во многом остались на абстрактном уровне. У Башляра нет разработанной социологии познания. А что касается робинзонады, то не попадает ли он сам в ее ловушку, провозглашая одинокого субъекта носителем веры в Науку, сосредотачивающим в себе весь моральный психический динамизм ее движения? Можно спросить: плохо это или хорошо? Прав в этом Башляр или неправ? Но в любом случае, при любом ответе на эти как бы “детские” вопросы мы находим в структуре его эпистемологических работ возможность разнонаправленных движений мысли. Именно эта “аморфность” или “амфотерность” (амбивалентность) некоторых его построений позволяет одним критиковать его за “морализаторство” и “психологизм”, противопоставляя этой “идеалистической антропологии” “децентрацию субъекта”, “смерть человека”, игру анонимных практик (критика Башляра со стороны структурализма). Но эти же самые построения мыслителя позволяют философам других ориентаций видеть в нем цельного метафизика, находящего общие корни воображения и разума, отстаивающего принцип свободы и персонализм. Для одних гуманизм — нечто преодоленное и научно неполноценное, для других — высшая ценность, питающая и саму науку. Поэтому в результате такой диспозиции загадочно двоится все творчество Башляра, подразделяясь на творчество “дня” (научная эпистемология) и творчество “ночи” (теория поэтики и эстетика). Но подобное двоение охватывает уже и одну часть этого “диптиха” — эпистемологию. В анализе динамического опыта науки Башляр нашел оружие против “склероза” преждевременных и неоправданных обобщений, исходящих, и это правда, нередко как раз от профессорской философии, от “интегральной” философии, от “идеализмов” философских кафедр.
В этом смысле показателен его доклад “Научное призвание и душа человека” (1952 г.) [61, 3]. Башляр глубоко и живо чувствовал науку — ее будни и праздники, ее драматизм, ее этос и мораль. Наука, по Башляру, трудное, рискованное предприятие, требующее от ученого своеобразной аскезы, самовоспитания, мужества, упорства и постоянства. Башляр не согласен с утверждением Макса Шелера о комизме мученичества в науке (или за науку). По Башляру, наука — духовное предприятие, строящееся на вере в него. И поэтому, как и для религии, мученичество в науке и за науку — неизбежный элемент ее истории. По Шелеру же, наука — развитый вид приспособления, продолжающий ту адаптацию, которая формируется в растительном мире, а затем и в животном, переходя в мир человека. Концепция, с которой не соглашается Башляр, носит, таким образом, явно континуалистский характер. Против Шелера и присоединяемого им к нему Мейерсона Башляр выдвигает тезис о принципиальном разрыве между шимпанзе и человеком, решительно не соглашаясь с утверждением о том, что разница между поведениями обезьяны и человека только количественная. Весь опыт науки, считает Башляр, говорит о другом. Так, например, электротехника, подчеркивает он, это — воплощенный разрыв между миром обыденным и миром науки. Именно в науке осуществляется реальный трансцензус, радикальное пресуществление обычного мира. Знаменитая концепция эпистемологических разрывов, давшая название всей его эпистемологии, направлена именно против сглаживаний разнородного, против диктата отвлеченных схем и легковесных обобщений, из каких бы философских оснований, из каких бы философем единства ни исходили их создатели. В этом он — несомненный предтеча структурализма и отчасти всей постнеклассической науки конца XX в.
Действительно, динамический, открытый, плюралистический рационализм Башляра оказывается удивительно созвучным духу современной науки. Так, например, читая работы И.Пригожина, нельзя не вспомнить французского эпистемолога. В них речь идет о том же самом видении физической реальности. “Лишь в той степени, в какой современная физика способна построить удовлетворительное описание становления материи, не низводя его к кажимости, — говорит Пригожин, — она обнаруживает открытый мир, разнообразие которого не способна устранить никакая единая рациональная схема” [34, с. 7]. О множественности, плюрализме сущего, о конструкционности времени говорится во многих других местах работ известного физика [36, с. 34, 50; 33, с. 52]. Конечно, Башляр оставил, насколько мы знаем, незамеченными работы по термодинамике необратимых процессов, которые в конце концов вылились в мощное направление исследований по самоорганизации и синергетике. Но как эпистемолог он сумел зафиксировать эти характеристики не на предметно–онтологическом уровне, а на уровне научного духа, познающего мышления. И для этого ему хватило анализа квантовой механики и теории относительности, учений об атомных и химических процессах. Концепция разрывов была у Башляра его концептуальным итогом изучения современной науки и техники в их истории. “Современное научное изобретение, — писал Башляр, — подводит итог такой гигантской сумме человеческой истории, оно утверждается на природе столь глубоко преображенной человеком, что нельзя более разделять тот континуализм, о котором учат философы” [61, с. 16].
* * *
На наш взгляд, Башляр остался в плену прогрессистской догмы. Он не смог установить тот творческий контакт с традицией, который позволяет увидеть прошлое как источник новых конструкций. Для него прошлое знание, фиксируемое традицией, не более чем набор психологических привычек, которые со временем становятся всего лишь тормозом и препятствием продвижению разума и науки. “Переставая быть активным и сознающим, что это он сам творит свои ценности, рационализм — пишет Башляр — склоняется к тому, чтобы превратиться в своего рода психологический эмпиризм, стать блоком привычек. Поэтому необходимо, чтобы человек науки действовал против прошлого своей собственной культуры” [66, с. 98]. По Башляру, нет таких ясных, отчетливых и самоочевидных идей, которые могли бы стать неизменным основанием разума. Ясность, считает он, всегда условна, частична, относительна. Ясное в одной области не гарантирует ясности в соседней. И именно поэтому, делает вывод философ, платоновская теория идей, платоновская эпистемология не подходят для современного разума, для того, чтобы быть теорией познания современной науки. Платоновские идеи существуют как последние данности, как конечные ясности и очевидности (для умозрения). Но именно поэтому они “иммобилизуют” разум. Идеи в духе Платона лишь спокойно ожидают, когда их найдут или откроют. Но, подчеркивает Башляр, “современная наука творит новую природу — в человеке и вне его” [там же, с. 99]. Данность, считает Башляр, всегда “закрывает” познавательный горизонт, ставит ограничение для творчества нового. Наука же творит непрерывно, она всегда в поиске и движется ускоренно и непредвиденно. Поэтому в поисках “открытой философии” Башляр выступает против платонизма как эпистемологии.
Образ разума, внушаемый Башляру феноменом современной науки, рисуется им в следующих словах: “Абсолютного разума не существует. Рационализм функционален. Он многолик и подвижен” [3, с. 183]. Разум — подвижность познавательной самодеятельности, всегда себя расширяющей и дополняющей. Рационализм поэтому всегда историчен, конкретен, детален, техничен, носит прикладной характер. Как, будучи таковым, разум осуществляет свое самостояние, остается загадкой. Крайний “мобилизм” разума требует в качестве оснований “неподвижных” начал его деятельности. Однако это требование обоснования самой подвижности разума остается у Башляра неудовлетворенным. Критики Башляра и всей традиции эпистемологического “мобилизма” указывали на то, что без “несущих” конструкций, без неподвижных устоев нет и возможности для самого движения и ускорения. В частности, Ж.Бенда подчеркивал платонистский мотив устойчивости в самых “мобилистских” концепциях современной науки, на которую ссылается Башляр [71, с. 21–23]. Так, например, если невозможно, согласно соотношению неопределенностей Гейзенберга, одновременно определить импульс и координату микрочастицы (“мобилизм”), то определению и устойчивому отношению, однако, доступна сама связь этих двух неопределенностей. Вообще всюду, подчеркивает Бенда, подвижность дополняется неподвижностью самой идеи. Так, например, в отношении открыта возможность для движения (отношение можно представить как бесконечный ряд соотносящихся членов), но сама идея отношения задана и фиксирована (например, в понятии предела ряда). Именно такого рода ходы мысли выдвигались и при интерпретации специальной теории относительности как теории абсолютного пространства–времени А.Д.Александровым [1]. В том же духе обсуждал в своих выступлениях инвариантность принципов лапласовского детерминизма в квантовой механике и Б.С.Грязнов.
Этот внутринаучный платонизм остался за кадром эпистемологической рефлексии Башляра, увлеченного “мобилизмом” и ускорением научного прогресса. Вообще нетрудно представить себе движение научной мысли как движение, ищущее новые константы и инварианты взамен старых. Башляр подчеркивает значение теории групп, но почему–то упускает из виду теорию инвариантов групп. Эта взаимосвязь “динамики” и “статики” очевидна. Если, скажем, масса, бывшая константой (инвариантом) в механике Ньютона, перестает быть таковой, то взамен обнаруживаются новые константы, новые инварианты (сами формулы для преобразований массы, скажем, в специальной теории относительности). Возникают и такие инварианты, например, как предел для скоростей в виде скорости света, чего не было в классической механике.
Отношение к платоновской эпистемологии у Башляра двойственно. Он пишет: Сегодня смело можно вывесить на двери лаборатории физика или химика платоновское предупреждение: “Не геометр, да не войдет!” [3, с. 147]. Возвратом к знаменитой формуле платоновой Академии Башляр хочет обратить внимание на содержательную значимость математики в естествознании. Математика — не отвлеченный язык природы, хочет сказать он, а сама суть дела, само содержание реальности физического мира. Здесь намечена возможность того платонизма, который присущ, скажем, Гейзенбергу (бытие мыслится как в себе самом математическое, математической структуре придан онтологический статус). Но этого шага Башляр все же не делает в полной мере, так как сами математические структуры у него подлежат безоглядной динамике “мобилизма”. Этого, конечно, не было ни у Гейзенберга, ни, тем более, у Платона. Да, математика онтологична. Но само бытие — не первая категория: возможность выше бытия, становление выше сущего. Так считает Башляр, упорно обходящий проблему “устоев” своего безудержного “мобилизма”. Как основа Бытия за ним во весь рост встает Становление. В частности, в современной физике оно, подчеркивает Башляр, “напоминает некий диалог между материей и энергией” [3, с. 213].
В образ онтологии “открытого рационализма” входит также и то, что бытие мыслится Башляром раздробленным, не целостным. “С точки зрения ученого — говорит Башляр, для которого ученый — главный законодатель в сфере познания, — бытие невозможно ухватить целиком ни средствами эксперимента, ни разумом” [3, с. 40]. А поэтому “следует порвать с молчаливой уверенностью, что бытие непременно означает единство” [там же, с. 39]. И если все же Башляр и допускает некоторое единство бытия, то такую уступку он делает как исключение для математики: “Подлинное единство реального, — говорит он, — имеет математическую природу” [там же, с. 232]. В этом и проявляется отмеченный нами ход мысли к платонизму в духе Гейзенберга, оставшийся, как мы сказали, незавершенным.
В соответствии с установкой на “мобилизм” реальность у Башляра уступает место “реализации”, а истина — “объективации” [3, с. 206, 187, 146 и др.]. “Реальное — говорит философ — не более, чем реализация” [там же, с. 206]. Это означает, что человек творит реальность своей рациональной активностью: явления он предсказывает, а затем их реализует (“феноменотехника”). Так же точно и истина превращается в процесс объективации. Современная наука, говорит Башляр, занята “прогрессирующей объективацией” [там же, с. 148]. Наука движется от объекта к объекту, расширяя зону объективированного и, главное, при этом возрастают сами возможности объективировать. То, что объективировано, то доступно контролю со стороны человека, входит в управляемый им образ мира. Здесь мы подходим к тому пункту, который был оригинально развит у такого последователя Башляра, как Мишель Фуко. Фуко обнажил некоторые мировоззренческие и философские предпосылки “мобилизма” или динамизма Башляра, показал его скрытые основания. Знание, отказывающееся от платоновских идей (от идей устойчивости, иными словами), оказывается обоснованным волей к власти или волей к “власти–знанию”, как это происходит у Фуко [9, 85, 86]). Так за “сюррационализмом” Башляра маячит “сюриррационализм” в духе Ницше...
* * *
Отметим некоторые моменты, фиксирующие направление развития эпистемологической мысли во Франции после Башляра. В структуралистской эпистемологии знание рассматривается как более широкое, чем наука, формообразование культуры, анализируемой с помощью семиотико–структурального подхода. На первый план в анализе науки выдвигается лингвистическая модель: знание вообще и наука в частности — это определенный язык. При таком подходе, естественно, специфика науки как познания если и не исчезает, то отодвигается на второй план, так как наука рассматривается как феномен культуры, в которой она и находит свои “парадигмы” или “эпистемы”. Такова, например, концепция археологии знания М.Фуко, в которую кроме отмеченных моментов введена еще и, так сказать, теоретико–деятельностная компонента в виде понятия “дискурсивной практики".
Мы в своей работе следовали классической линии, фиксирующей основное направление развития эпистемологии во Франции после Башляра (Башляр — Кангилем — Фуко) и впервые прочерченной в работе Лекура [101]. Эпистемологический анализ в ходе такой его эволюции переходит от относительно “камерных” теоретико–познавательных проблем научного рационализма (Башляр) к “глобальным” проблемам исторического социокультурного генезиса знаний, включенных как в формирование, так и в осуществление основных “стратегий” развития западной цивилизации (генеалогия власти–знания Фуко). Если Башляр только подводит к проблеме социального статуса научных знаний (понятие “града ученых”), оставаясь на почве психологистского истолкования их динамики, то Кангилем рассматривает историю науки в институциональном и социальном аспектах, связывая их с когнитивной стороной науки, причем социокультурные факторы научного развития действуют у него преимущественно как “идеологии” и “нормы”. Социополитические установки и исследовательские программы взаимно коррелируют друг с другом, как это показывает Кангилем, анализируя, например, редукционизм в биологии XIX века [76, с. 121].
В своей генеалогии власти–знания Фуко только довел до логического завершения эту тенденцию в развитии французской эпистемологии, начало которой было положено Башляром. В отличие от Кангилема, у которого речь идет о корреляции социополитических установок и научных программ, у Фуко социальные аппараты генерации и использования знаний не просто взаимодействуют с ними, накладывая на них свой отпечаток. Социальные структуры и структуры когнитивные так взаимно соответствуют друг другу, что их уже невозможно анализировать по отдельности (концепция власти–знания). На “генеалогическом” уровне анализа, вычлененном Фуко, “нет, с одной стороны, познания, и общества, с другой; нет науки, с одной стороны, и государства, с другой, а есть лишь фундаментальные формы власти–знания”*.
Структурализм, как мы показали, действительно выявил некоторые существенные возможности, содержащиеся в “открытом рационализме” Башляра. В частности, он показал возможность перейти от психологистской трактовки основных понятий исторической эпистемологии к социокультурному их истолкованию. Например, у Кангилема тема эпистемологического препятствия раскрывается с помощью понятия “идеологии” (в частности, “научной идеологии” [10, 76]). В связи с этим нам казалось, что позитивным сдвигом проблематики или даже прогрессом является более активное подключение к анализу знания методов и приемов социокультурной истории. Однако, как не без резона замечает сам Башляр, философия вряд ли знает прогресс и поэтому всякие фиксированные “перспективы”, хотя, пожалуй, и неизбежны в конкретных исследованиях, но в то же время достаточно условны, особенно когда выходят за их пределы.
Та позиция, исходя из которой мы оценивали в нашей работе творчество Башляра–эпистемолога, можно назвать социокультурной историей знания или исторической социокультурной гносеологией*. Эта позиция действительно близка той, которую в своей концепции власти–знания развивал Фуко, сам во многом унаследовавший принципы исторической эпистемологии Башляра [9, 85, 86]. В соответствии с подходом Фуко анонимность социальных практик, в том числе дискурсивных, и цивилизационных стратегий, в них реализуемых, становится своего рода фундаментальной “микрофизикой”, стоящей за теми эпистемологическими “макроявлениями”, которые рассматриваются в исторической эпистемологии Башляра. В плане такого подхода всякая отсылка к личности, к субъекту, к его сознанию превращается в своего рода методологическое “табу”. Отсюда становится понятен тот критицизм, который автор направлял на психологизм Башляра, солидаризируясь с его структуралистскими критиками. Однако возможен и иной, даже противоположный по своей интенции подход, принимающий во внимание возможности, оставшиеся в тени у Башляра–эпистемолога. Речь идет о крупномасштабной мировоззренческой и философской переориентации, оправданной, в частности, и тем, что в творчестве Башляра можно отыскать указания на совсем иную, чем сциентизм, установку**. Мы имеем в виду прежде всего тот глухо выраженный в некоторых эстетических эссе Башляра своего рода персонализм, который идет “поперек” его же собственным интенциям как эпистемолога. Для философствующих с помощью молота радикалов от философии этот подтекст покажется непоследовательностью и мелочью, которой следует пренебречь. Нам, однако, важно понять саму возможность иной интерпретации Башляра, разомкнув при этом наше собственное мышление. При этом мы выходим на понимание того, что для мысли Башляра характерны не только те ограничения или пределы, которые можно обозначить, как пределы “снизу”, но и пределы “сверху”. Первые из них отмечались всеми теми, кто так или иначе следовал за традицией “школы подозрения” (слова Рикёра), т.е. традиции Маркса — Ницше — Фрейда. Именно с этой традицией считались и мы в наших оценках исторической эпистемологии. Но теперь пришел момент определить возможность иного подхода, дающего совсем другое мерило для оценки творчества Башляра.
Как мы уже отметили во Введении, Башляр упорно избегает метафизические, космологические, этические и, тем более, теологические проблемы. В его эпистемологических работах мы не видим выхода на метафизический уровень анализа, где действуют понятия (хотя бы в виде интенций) о Целом, об абсолюте, о вечности... Поэтому мы можем констатировать, что горизонт мысли Башляра–эпистемолога ограничен не только, так сказать, “снизу” (что не раз отмечалось его критиками структуралистского направления, например, представителями школы Альтюссера, и что было подчеркнуто и в нашей работе), но и “сверху”. И эта ограниченность, пожалуй, еще существеннее первой. На нее среди немногих ее отметивших указал Пуарье: “Башляр не чувствует себя, — говорит он, — укоренным в трансценденции (au–dela)... Вселенная Башляра остается эпистемологически замкнутой” [108, с. 37].
Эту экранированность “открытого рационализма” от “неба” однако вряд ли можно безоговорочно отнести ко всему творчеству Башляра, знавшего и свои “звездные” часы, или точнее, мгновения. Можно предположить, что за отмеченными нами в критическом ключе психологизмом и морализаторством философа стояло, правда, в некоторой метафизической тени, изгнанное из структуралистской философии, провозгласившей “смерть человека” [41, с. 486–487], понятие личности. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать его эссе “Мгновение поэтическое и мгновение метафизическое”, впервые опубликованное в 1939 г. [3, с. 352–353]. Здесь говорится о том, что помимо обычного, “горизонтального” времени существует еще и своего рода “вертикальное время”, время “формы и личности”, в котором движутся как нравственная жизнь, так и поэзия. Но наука, по–видимому, движется в горизонтальном времени, времени причин и следствий, времени объективации, где личность, если и творит формы, то лишь для того, чтобы, создав их, тут же и оставить. И если Башляр понимает нравственность и поэзию как измерения вертикального времени, времени личности и свободы, то подойти к науке с аналогичным пониманием можно как раз в том случае, если рассматривать ее как своеобразную личную аскезу, как самоотказ личности ради объективации, принимающей здесь функцию истины. В поэзии форма и личность свободно отождествляются. Как говорит Башляр, “форма есть личность, а личность — форма” [там же, с. 352]. Но в науке отождествление такого типа уже невозможно, и личность обретает себя не в научной форме как таковой, а в переходе таких форм, т.е. в том самом динамизме разума (“мобилизме”), пророком которого и выступил в своей эпистемологии Башляр. Эти рассуждения показывают, что и эпистемологический “мобилизм” можно себе представить связанным с интуицией личности, пусть и оставшейся затененной.
По сути дела, именно отношением к этой интуиции определяется и отношение к тому, что в нашей работе выступило как психологизм концепции Башляра. Нам представляется, что продуктивное “поле” философской мысли немыслимо без антиномического напряжения между такими, в частности, полюсами как, с одной стороны, принцип личности, а, с другой, принцип интерсубъективности, представленной в исторических формах социальности и культуры, в мире общественных институтов и практик. И хотя мы оценивали взгляды Башляра по мерилу достаточно сильной редукционистской программы исторической социокультурной гносеологии, однако в Заключении мы не можем не отметить значимость и персоналистской установки и всего связанного с нею подхода “сверху”, о чем мы только что сказали. В этой ситуации речь не может идти ни о необходимости выбора, ни о необходимости синтеза. “Абсолютный выбор”, как и “идеальный синтез” представляются нам равно невозможными там, где двуполюсность философской мысли принципиально неустранима, не редуцируема. И уже поэтому трудно, если возможно вообще, говорить о прогрессе в философии.
Такую “географию” пространства философской мысли можно себе представить как неустранимую двуобразность истины. Во–первых, истина выступает как объективация мира и человека. И именно на таком ее представлении делает упор Башляр в своей эпистемологии. Истина в таком подходе определяется как процесс объективации, нацеленный на получение объективного знания, содержание которого можно описать как “устойчивые отношения между вещами, получаемые в качестве знания стандартными приемами... и позволяющие контролировать поведение вещей и людей” [11, с. 37]. В истине как объективном знании, таким образом, раскрывается как бы “холодная арматура” существования, высматриваемая, просматриваемая и подсматриваемая “снизу”.
Но истина, во–вторых, может схватываться и “сверху”. Это — образ истины как истины духовной, определяющий ее как дух и свободу, недоступные для объективации и тем самым для исчерпывающего технического контроля, но доступные для живой самосознающей личности. “Такое значение истины предполагает длительную традицию духовной культуры и ею поддерживается, питая творчество... Если истину в первом значении можно определить как объективное знание о части, то во втором значении ее надо определить как субъективное знание о целом” [там же, с. 38]. В истории культуры, частью которой является история науки, эти значения истины нередко вступают между собой в спор (например, столкновение детерминизма и индетерминизма). Ареной такого спора может быть и одна личность, один мыслитель. Поэтому и неудивительны те дискуссии, та критика и те перемены точек зрения, которые сопровождают интерпретацию текстов таких мыслителей, как Башляр, у которого оба эти значения, пусть и асимметрично, представлены в остром натяжении спора, пускай и подспудного. Но где–то взгляд “снизу” и взгляд “сверху”, видимо, сходятся, но, как и параллельные прямые, уже за горизонтом видимого нами, за окоемом нашего обыденного мира (или, скорее, именно в нем, но свободном от всяких его моноистолкований). Где–то там, за этим трудно достижимым рубежом, объективное знание и субъективная форма совпадают, как совпадают “день” и “ночь”, воображение и рациональность, горизонталь и вертикаль, наука и нравственность. Культура не может не двигаться сразу по этим параллельным “рельсам”, удерживая тем самым свое собственное продуцирующее ее напряжение. И поэтому мы, как бы попеременно, то встаем на точку зрения научности и объективности, подсвечивая “снизу” скрытые предпосылки наших убеждений, то, напротив, подчеркиваем первостепенную важность высвечивания ситуации “сверху”, внося в объективированный овеществленный мир интуицию Целого, схватывающую присутствие объемлющего смысла, апеллируя при этом не столько к отвлеченному уму, сколько к самой личности и ее сердцу.
Эту всегда напряженную двуполюсность живой личности знал и Башляр и этим мерцающим в его творчестве светом Целого он нам всем и дорог как мыслитель.
Библиография
1. Александров А.Д. Философское содержание и значение теории относительности // Философские проблемы современного естествознания. М., 1958. С. 93–136.
2. Балашова Т.В. Научно–поэтическая революция Гастона Башляра // Вопр.философии. 1972. № 9, С. 140–146.
3. Башляр Г. Новый рационализм. М.: Прогресс, 1987.
4. Борн М. Действительно ли классическая механика детерминистична? // Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., 1963. С. 285–293.
5. Бурбаки Н. Теория множеств. М.: Мир, 1965.
6. Варшавский В.С. Незамеченное поколение. Нью–Йорк: Изд. им. Чехова, 1956.
7. Вигнер Е. Этюды о симметрии. М., Мир, 1971.
8. Визгин В.П. Герметическая традиция и генезис науки // ВИЕТ, 1985. № 1. С. 56–63.
9. Визгин В.П. Генеалогия знания Мишеля Фуко // Исследовательские программы в современной науке. Новосибирск, 1987. С. 267–284.
10. Визгин В.П. Образ истории науки в трудах Жоржа Кангилема // Современные историко–научные исследования (Франция). М., 1987. С. 104–140.
11. Визгин В.П. Истина и ценность // Ценностные аспекты развития науки. М.: Наука, 1990. С. 36–51.
12. Визгин В.П. Традиции и инновации (взгляд историка науки) // Традиции и революции. М., 1991. С. 187–203.
13. Воронцов–Вельяминов Б.А. Лаплас. М., Наука, 1985.
14. Джеммер М. Эволюция понятий квантовой механики. М.: Наука, 1985.
15. Джуа М. История химии. М.: Прогресс, 1966.
16. Дюгем П. Физическая теория. Ее цель и строение. Спб., 1910.
17. Зотов А.Ф. Гастон Башляр и методология науки XX века // Вопр. философии, 1973. № 3. С. 137–145.
18. Зотов А.Ф. “Прикладной рационализм” Гастона Башляра // Проблемы и противоречия буржуазной философии 60–70–х гг. М., 1980.
19. Зотов А.Ф. Концепция науки и ее развития в философии Гастона Башляра // В поисках теории развития науки. М., 1982.
20. Зотов А.Ф., Воронцова Ю.В. Современная буржуазная методология науки. М.: Изд. МГУ, 1983.
21. Зотов А.Ф. Предисловие // Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987. С. 5–27.
22. Кассирер Э. Познание и действительность. Спб., 1912.
23. Кассирер Э. Теория относительности Эйнштейна. П., 1922.
24. Клайн М. Математика. Утрата определенности. М.: Мир, 1984.
25. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. Т. 1. М.;Л.: ОНТИ, 1935.
26. Кудрявцев П.С. Курс истории физики. М.: Изд. МГУ, 1974.
27. Кузнецов В.И. Диалектика развития химии. М.: Наука, 1973.
28. Кузнецов В.Н. Французская буржуазная философия. М.: Изд. МГУ, 1970.
29. Курнаков Н.С. Введение в физико–химический анализ. М.;Л, 1940.
30. Менделеев Д.И. Основы химии. (Изд. VI), Спб., 1895.
31. Нуржанов Б.Г. Принципы “диалектической методологии” неорационализма и научное познание // Принципы материалистической диалектики. Алма–Ата, 1980. С. 147–159.
32. Пастернак Б. Избранное. Т. 1. М., 1985.
33. Пригожин И. От существующего к возникающему. М.: Наука, 1985.
34. Пригожин И. Переоткрытие времени // Вопр.философии. 1989. № 8.
35. Пригожин И. Философия нестабильности // Вопр. философии. 1991. № 6.
36. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.: Прогресс, 1986.
37. Соловьев В.С. Тайна прогресса // Соловьев В.С. Соч. В 2–х т. Т. 2. М., 1989. С. 619–621.
38. Субъект — Объект — Проект. (Круглый стол) // Вопр.философии. 1985.
39. Федорюк Г.М. Французский неорационализм: Крит. очерк. Ростов: Изд. РГУ. 1983.
40. Филиппов Л.И. Проблема воображения в работах Гастона Башляра // Вопр.философии, 1972. № 3. C. 156–164.
41. Фуко М. Слова и вещи. М.: Прогресс, 1977.
42. Холтон Дж. Тематический анализ науки. М.: Прогресс, 1981.
43. Шпольский Э.В. Атомная физика. Т. 1. Введение в атомную физику. М.: Высшая школа, 1984.
44. Albury N.R. The Logic of Condillac and the Structure of chemical and biological Theory (1780–1801). Johns Hopkins University, 1972.
45. Ancarani V.Struttura e mutamenti nelle scienze: L'epistemologia storica di Gaston Bachelard. Milano, 1981.
46. Aron R. Notice sur la vie et les travaux de Gaston Bachelard. P., 1965.
47. Bachelard G. Etude sur l'évolution d'un probleme de physique: La propagation thérmique dans les solides. P., 1927, 2 éd. P., 1973.
48. Bachelard G. Essai sur la connaissance approche. P., 1927.
49. Bachelard G. La valeur inductive de la relativité. P., 1929.
50. Bachelard G. Le pluralisme cohérent de la chimie moderne. P., 1932.
51. Bachelard G. Les intuitions atomistiques: Essai d'une classification. P., 1933.
52. Bachelard G. Le nouvel esprit scientifique. P., 1934.
53. Bachelard G. La dialctique de la dure. P., 1936.
54. Bachelard G. La psychanalyse du feu. P., 1938.
55. Bachelard G. La formation de l'esprit scientifique: Contribution a une psychanalyse de la connaissance objective. P., 1938.
56. Bachelard G. Philosophie du non: Essai d'une philosophie du nouvel esprit scientifique. P., 1940, 2 ed. P., 1962.
57. Bachelard G. L'air et les songes: Essai sur l'imagination du mouvement. P., 1943.
58. Bachelard G. Le rationalisme appliqu. P., 1949.
59. Bachelard G. L'actualit de l'histoire des sciences (1951) // Bachelard G. L'engagement rationaliste. P., 1972. P. 137–152.
60. Bachelard G. Le matrialisme rationnel. P., 1953.
61. Bachelard G. La vocation scientifique et l'ame humaine // L'homme devant la science. Neuchatel, 1953.
62. Bachelard G. L'activit rationaliste de la physique contemporaine. P., 1951.
63. Bachelard G. La potique de la reverie. P., 1960.
64. Bachelard G. La philosophie scientifique de Lon Brunschvicg // Bachelard G. L'engagement rationaliste. P., 1972. P. 169–177.
65. Bachelard G. La vie et l'oeuvre d'Edouard Le Roy (1870–1954) // Bachelard G. L'engagement rationaliste. P., 1972. P. 155–168.
66. Bachelard G. Le nouvel esprit scientifique et la création des valeurs rationnelles // Bachelard G. L'engagement rationaliste. P., 1972. P. 89–102.
67. Bachelard G. Le surrationalisme // Bachelard G. L'engagement rationaliste. P., 1972. P. 7–14.
68. Bachelard. Colloque de Cerisy. P., 1974.
69. Backes J.–L. Sur le mot “continuité” // L'Arc (Bachelard), n 42, 1970. P. 69–75.
70. Baumann L. Gaston Bachelards materialistischer Transzendentalismus. Frankfurt a/M, Bern–New York–Paris, 1987.
71. Benda J. De quelques constants de l'esprit humain: Critique du mobilisme contemporain (Bergson, Brunschvicg, Boutroux, Le Roy, Bachelard, Rougier). P., 1950.
72. Boerhaave H. Eléménts de Chymie. Trad. du latin. Vol. II, Leiden, 1752.
73. Boudot M. Le rôle de l'histoire des sciences selon Duhem // Etudes philosophiques, n 4, 1967. P. 421–432.
74. Brosse J. Portrait de Bachelard // L'Arc, n 20, 1962. P. 92–96.
75. Canguilhem G. Dialctique et philosophie chez Gaston Bachelard // Etudes d'histoire et philosophie des sciences. P., 1968. P. 196–207.
76. Canguilhem G. Idéologie et rationalit dans l'histore des sciences de la vie. P., 1977.
77. Canguilhem G. L'histoire des sciences dans l'oeuvre épistémologique de Gaston Bachelard // Etudes d'histoire et de philosophie des sciences. P., 1968. P. 173–186.
78. Comte A. Cours de philosophie positive. Vol. I. P., 1975.
79. Dagognet F. Brunschvicg et Bachelard // Revue de mtaphysique et de morale, n 70, 1965. P. 43–54.
80. Dagognet F. Bachelard. P., 1965.
81. De Broglie L. Théorie de la quantification dans la nouvelle mécanique. P., 1932.
82. Dionogi R. Gaston Bachelard: La filosofia come ostacolo epistemologico. Padova, 1973.
83. Einstein A., Besso M. Correspondance (1903–1955). P., 1972.
84. Forcault M. L'archologie du savoir. P., 1969.
85. Foucault M. Surveiller et punir: Naissance de la prison. P., 1975.
86. Foucault M. Histoire de la sexualité. Vol. I. Volonté de savoir. P., 1976.
87. Foucault M. Folie et déraison: L'histoire de la folie a l'age classique. P., 1961.
88. Fourier J. Théorie analytique de la chaleur. P., 1822.
89. Frankel E. J.B.Biot and the mathematization of experimental physics in napoleonic France // Historical Studies in the Physical Sciences, n 8, 1977. P. 33–72.
90. Friedman R.M. The creation of a new science: Joseph Fourier's analytical theory of heat // Historical Studies in the Physical Sciences, n 8, 1977. P. 73–99.
91. Gaukroger S.W. Bachelard and the problem of epistemological analysis // Studies in History and Philosophy of Science, n 7, 1976. P. 184–244.
92. Ginestier P. Pour connatre la pensée de Bachelard. P., 1968.
93. Gonseth F. Les fondements des mathématiques. P., 1926.
94. Gonseth F. Les mathmatiques et la réalité. P., 1936.
95. Herivel H. Aspects of french theoretical physics: The XIX century // British Journal of the History of Science, n 3, 1968.
96. Hesse M. Forces and fields. New Jersey, 1985.
97. Ingen–housz J. Nouvelles expériences et observations sur divers objets de physique. P., 1785.
98. Kipling R. Poems. Short stories. Moscow, 1983.
99. Koyré A. From the closed world to the infinite universe. New York, 1957.
100. Koyré A. Etudes d'histoire de la pensée scientifique. P., 1966.
101. Lecourt D. Pour une critique de l'épistémologie (Bachelard — Canguilhem — Foucault). P., 1972.
102. Lecourt D. Bachelard ou le jour et la nuit: Un essai du matérialisme dialéctique. P., 1974.
103. L'homme devant la science. Neuchatel, 1953.
104. Mc Allester E.M. Unité de pensée chez Bachelard: Valeurs et langage // Bachelard. Colloque de Cerisy. P., 1974. P. 91–110.
105. Margolin J. Bachelard. P., 1974.
106. Martin R. Bachelard et les mathématiques // Bachelard. Colloque de Cerisy. P., 1974. P. 46–61.
107. Newton I. Scala graduum caloris et frigoris // Philosophical Transactions, avril 1701. P. 824–829.
108. Poirier R. Autour de Bachelard épistémologue // Bachelard. Colloque de Cerisy. P., 1974. P. 9–37.
109. Polizzi G.A. Scienza ed epistemologia in Francia (1900–1970). Torino, 1979.
110. Piazza G.A. Costruzione matematica e spiegazione fisica nella filosofia di Gaston Bachelard // Epistemologia, 1982, a. 5, n 1.
111. Quillet P. Bachelard. P., 1964.
112. Ramnoux C. Monde et solitude ou de l'ontologie de Bachelard // Bachelard. Colloque de Cerisy. P., 1974. P. 387–403.
113. Redondi P. Epistemologia e storia della scienza: Le svolte teoriche de Duhem a Bachelard. Milano, 1978.
114. Richtmyer F.R. Introduction to modern physics. London, 1934.
115. Serres M. Hermes. Vol. I. La communication. P., 1969.
116. Serres M. La reforme et les sept péchés // Bachelard. Colloque de Cerisy. P., 1974. P. 68–85.
117. Vadée M. Gaston Bachelard ou le nouvel idéalisme épistémologique. P., 1975.
118. Voisin V. Bachelard. Bruxelles, 1967.
119. Vinti C. L'epistemologia francesa contemporenea: Per un razionalismo aperto. Roma, 1977.
Приложение
Творчество Гастона Башляра почти симметрично делится на две половины: на эпистемологию и философию науки, с одной стороны, и на эстетику и критику, с другой. Уже сам факт такой двуполюсности позволяет нам предположить, что философ в своей антропологии видел человека принципиальным образом двойственным существом — человеком “дня” или (научного) разума и человеком “ночи” или (не научного) воображения. В своих эпистемологических работах Башляр редко говорит о воображении, а если и говорит, то, как правило, как о препятствии на пути научного духа, подчеркивая чистоту рациональности современной науки (“спин мыслим, — говорит он, — но ни в коем случае не воображаем”1). Удивительны и мировоззренческие “качели” в этих контрастных частях его творчества. Так в эпистемологических работах, упоминая порой воображение, Башляр склоняется чуть ли не к вульгарному физиологическому материализму (“не следует забывать, — пишет он, — что процесс воображения непосредственно связан с сетчаткой, а не с чем–то мистическим и всемогущим”2), в то время как в работах по поэтике воображения он, напротив, склонен к романтическому нагружению воображения миросозидающей силой. “Образ в нас, — говорит он — не дополнение, а субъект воображения”3. Как считает башляровед альтюссерианского направления Доминик Лекур, в этой оценке воображения Башляр присоединяется “к тем поэтам и философам, которые видят в Воображении не психологическую способность, а сам источник Бытия и Мысли”4. К этому выводу приходит и Жан Ипполит: “Метафизика воображения, — пишет он, — которая является признанной целью Гастона Башляра, совсем другого порядка, чем экзистенциальный психоанализ Ж.–П.Сартра или психоанализ Фрейда. Она гораздо ближе “трансцендентальной фантастике” Новалиса, воображению немецких романтиков”5. Башляр совершенно сознательно и “по максимуму” разводит разум и воображение: “оси науки и поэзии противоположны”6, “научная установка состоит именно в том, чтобы сопротивляться наваждению символа”7, “научное понятие функционирует тем лучше, чем оно полнее освобождено от всего образного фона”8 т.д. Итак, исследование рациональной активности науки и анализ поэтической художественной грезы как день и ночь контрастно чередуются в его, к сожалению, очень еще мало известном у нас творчестве. Уже одним этим фактом мыслитель с площади Мобер (площадь в Париже, где постоянно после переезда в столицу жил Башляр) задал нелегкую задачу своим истолкователям. Одни из них, как, например, Ж.–К.Марголен, считают, что Башляр “в силе воображения открыл общий источник как научного открытия, так и художественного творчества”9. На сходной позиции стоит и Мери Мак–Аллестер, полагающая, что для поэзии и для науки у Башляра находится общий знаменатель — человеческая креативность, несущая с собой общий для творческой установки мир ценностей10. Но большинство исследователей творчества мыслителя склонны доверять ему самому, всегда подчеркивавшему, что между научным разумом и поэтическим воображением имеется непреодолимый разрыв.
Позитивистское устранение метафизической проблематики, присущее эпистемологическим работам Башляра (несмотря на полемику с позитивизмом), сменяется в его работах по поэтике воображения имплицитной онтологией в духе досократовских “физиков”. Распыленному в современных научных абстракциях космосу возвращается его первородная сила и ценностный вес. Как справедливо заметила известная исследовательница античной философии Клеманс Рамну, у Башляра в его работах по поэтике все формулировки, считающиеся верными или уместными в эпистемологии, необходимо опрокинуть, заменив их на противоположные. И таким образом, вполне естественно, что снова обретают смысл “субстанции”, “бытие”, но при условии, что они вступают в стихию воображения11.
Посмертно изданный Филиппом Гарсеном сборник важнейших эстетических эссе Башляра “Право на грезу” (Le droit de rever. P., 1970) послужил для нас основой для отбора двух эссе, впервые переводимых на русский язык. Эссе “Художник на службе у стихий” (Le peintre sollicité par les éléménts) впервые было опубликовано в журнале “XX–е siecle” nouvelle série, no 11–12 janv. 1954. В указанном сборнике это эссе помещено на сс.38–42. Второе публикуемое в нашем переводе эссе (L'espace onirique), взятое из того же сборника, впервые было опубликовано в журнале “XX–e siecle”, nouv.série, no 2, janv, 1952. В указанном сборнике оно помещено на сс.195–200. Три другие эссе из данного сборника (“Введение в “Библию” Шагала”, “Мгновение поэтическое и мгновение метафизическое”. “Материал и рука”) уже были опубликованы в однотомнике избранных работ философа “Новый рационализм” (М., Прогресс, 1987). Концепция “материального воображения” Башляра проанализирована в содержательной статье Л.И.Филиппова “Проблема воображения в работах Гастона Башляра” (Вопросы философии, № 3, 1972). Место Башляра в современной эстетике рассматривает Т.В.Балашова в статье “Научно–поэтическая революция Гастона Башляра” (Вопросы философии, № 9, 1972).
Гастон Башляр
Онирическое пространство
I
В каком пространстве живут наши сновидения? Какова динамика нашей ночной жизни? И верно ли, что пространство нашего сна это действительно пространство покоя? Не наделено ли оно, напротив, движением — беспрестанным и беспорядочным? На все эти вопросы у нас мало ясных ответов, потому что, пробуждаясь, мы находим только осколки ночной жизни. И эти куски разбитого сновидения, эти фрагменты онирического пространства, мы соединяем воедино уже в рамках геометрически выверенного, ясного, прозрачного пространства. Рассекая живое сновидение, мы имеем дело только с его мертвыми частями. При этом мы к тому же утрачиваем возможность изучения всех тех функций, которыми наделена физиология отдыха во время сна. В ряду онирических трансформаций или преобразований, идущих во время сна, мы фиксируем только остановки, мгновения неподвижности. Но, тем не менее, именно превращения или трансформации обнаруживают онирическое пространство как место движений воображения.
Быть может, мы бы лучше поняли эти внутренние интимные движения, их зыбкое бесконечное волнение, если бы обозначили и различили те два великих прилива или такта, каждый из которых или уносит нас в самый центр ночи, или же выносит затем на берег ясности и активности дня. Ведь, в самом деле, ночь доброго сна имеет своего рода центр, психическую полночь, где гнездятся истоки сновидений. И именно к этому центру сначала стягивается онирическое пространство, и именно от этого центра или порождающего фокуса пространство сна растягивается, распространяется и структурируется.
В краткой статье мы не можем проследить все завихрения того пространства, которое беспрестанно пульсирует, сжимается и расширяется. Отметим только в целом его диастолическое и систолическое движения, скоординированные центром ночной жизни.
II
Как только мы начинаем погружаться в сон, пространство размягчается и туманится — усыпляется само, немного опережая нас самих, утрачивая при этом держащие его волокна и связи, утрачивая силы, структурирующие его, геометрическую связность и сплоченность. То пространство, в которое мы начали свое переселение, чтобы жить в нем ночные часы, совсем недалеко отсюда. Это — близкий нам синтез вещей и нас самих. И если мы в сновидении видим какой–то предмет, то мы входим в него как в раковину. Ведь наше онирическое пространство непременно обладает центростремительной структурой. Иногда, в наших сновидениях, мы летаем, веря, что уносимся высоко в высь, но сами мы при этом наделены ничтожным количеством левитационной материи. И поэтому те небеса, в которые мы устремляемся, это — небеса нашей интимной жизни — желания, надежды, гордость. И мы слишком удивлены этим экстраординарным вояжем для того, чтобы превращать его в спектакль. Сами мы при этом остаемся в самом центре нашего онирического переживания. Так, если во сне вспыхивает звезда, то это сам спящий загорается звездой — маленькое светлое пятнышко на заснувшей ретинной оболочке глаза вырисовывает эфемерную констелляцию, расплывчатое напоминание о звездной ночи.
И дело обстоит именно так: пространство сна являет собой прежде всего анатомию нашей сетчатки, на поверхности которой микрохимия пробуждает целые миры. Итак, наше онирическое пространство наделено в своей глубине, в своем основании, такой вуалью, которая озаряется сама собой в редкие мгновения, причем эти мгновения случаются все реже и реже по мере того, как ночь все глубже и глубже проникает в наше существо. И вот вам Майя, но наброшенная не на мир, а на нас самих благодетельной ночью, покрывало Майи столь же необъятное, как и наше веко. И сколько же парадоксов встают на пути, когда мы воображаем себе, что это веко, этот клочок покрывала, принадлежит столь же ночи, сколь и нам самим! Кажется, что сам спящий участвует в воле затемнения, в воле ночи. И нужно исходить именно из этого для того, чтобы понять онирическое пространство, пространство, созданное из существенных оболочек, пространство, подчиненное геометрии и динамике обволакивания.
Итак, глаза сами по себе наделены волей ко сну, волей весомой, иррациональной, шопенгауэровской. Если же глаза не участвуют в этом потоке мировой воли ко сну, если они вспоминают сияние солнечного дня и тонкие ароматы цветов, то это значит, что онирическое пространство не достигло еще своего центра. Оно переполнено далями, выступая как ломкое и турбулентное пространство бессонницы. В нем сохраняется геометрия дня, но геометрия, конечно, расслабленная, которая поэтому становится нелепой, обманчивой, абсурдной. И происходящие при этом сновидения и кошмары столь же далеки от истин света и дня, сколь далеки они от искренности ночи. И для того, чтобы спать хорошим сном, нужно следовать за волей к обволакиванию, волей куколки или хризалиды, следовать вплоть до самого ее центра, проникаясь плавностью хорошо закругленных спиралей, тому обволакивающему движению, при котором сутью дела становится именно кривая линия, линия циклическая, избегающая углов и обрывов. Именно яйцевидные формы определяют символы ночи. Все эти удлиненные или закругленные формы подобны плодам, в которых зреют их зародыши.
Если бы у нас в этой краткой заметке имелась для того возможность, то, после описания расслабления глаз, мы бы описали и расслабление рук, которые при этом также отказываются от схватывания предметов. И если бы мы вспомнили, что в основе любой специальной динамики человека лежит динамика пальцев, то нужно было бы согласиться, что онирическое пространство развертывается тогда, когда сжатые в кулак пальцы разжимаются.
Но в этом кратком наброске мы уже сказали достаточно для того, чтобы описать первый из двух векторов ночи. Пространство, которое утрачивает свои горизонты, сжимается, закругляется, свертывается, это пространство, которое верит в мощь своего центра. И такое пространство заключает в себе обычно сновидения защищенности и покоя. Образы и символы, наполняющие это концентрирующееся вокруг центра пространство, должны истолковываться в зависимости от их близости к центру. И истолкование ускользает, если их изолируют, если их не рассматривают как момент в динамике процесса, структурируемого центром сна.
А теперь обратим внимание на саму психическую полночь и проследим за вторым вектором или направлением ночи, которое ведет нас к рассвету и пробуждению.
III
Освобожденный от далеких миров, от в–даль–смотрящей практики, возвращенный интимом ночи к первоначальному существованию, человек в фазе своего глубокого сна обретает формообразующее телесное пространство. Он испытывает сновидения даже благодаря своим телесным органам: его тело отныне живет в простоте своего самовосстановления, наделенное волей к воссозданию своих фундаментальных форм.
И прежде всего к восстановлению обращены голова и нервы, железы и мускулы, все то, что набухает и расслабляется. И сны при этом наполняются преувеличивающей, раздувающей силой. Размеры вырастают, свернутое распрямляется. И так вместо спиралей возникают стрелы с агрессивно заточенными наконечниками. Существо пробуждается, но еще лицемерно, храня глаза закрытыми и ладони расслабленными. Пластическое состояние сменяется плазматически структурирующимся. Вместо закругленного пространства возникает пространство с предпочтительными направлениями, с векторами желания, осями агрессии. И руки, сколь же они юны, когда обещают сами себе решительно действовать, обещают накануне рассвета! Вот большой палец играет на клавишах всех остальных. И мягкая глина сновидения отвечает на эту деликатную игру. Онирическое пространство при приближении пробуждения — пучок тонких прямых линий. А рука, ожидающая пробуждения — пучок готовых напрячься мускулов, желаний, проектов.
Итак, образы сна теперь имеют другую направленность. Они выступают как сновидения воли, как ее схемы. Пространство наполняется предметами, провоцирующими больший объем активности, чем реально с ним связанный. Такова функция полной или полноценной ночи, знающей двойной ритм, ночи здоровой, обновляющей человека и ставящей его на пороге нового дня.
Итак, пространство словно спелый плод трескается, раскрываясь со всех сторон, и его теперь надо схватить в этом его раскрытии, в его “увертюре”, являющейся чистой возможностью для творчества всевозможных форм. Действительно, рассветное онирическое пространство преображено внезапно хлынувшим внутренним интимным светом. И существо, исполнившее свой долг хорошего сна, наделяется вдруг таким взглядом, которому по душе прямая линия и рука, поддерживающая все то, что является прямым. Так из пробуждающегося существа уверенно высвечивается день. И воображение концентрации, группировки вокруг центра, уступает место воле к распространению.
Такова в своей предельной простоте двойная геометрия, в рамках которой развертываются два противоположно направленных процесса становления ночного человека.
Гастон Башляр
Художник на службе у стихий
Перед тем, как погрузиться в работу созидания, художник, как и всякий создатель, не может избежать грезящей медитации о природе вещей. И в самом деле, художник в такой интимной близости присутствовал при откровении мира, вершимом светом, что он не может всем своим существом не участвовать в непрерывно возобновляемом рождении универсума. Никакое из искусств не является в такой степени и так непосредственно и демонстративно творящим, как живопись. И для великого художника–живописца, размышляющего о силе своего искусства, созидающей творческой силой является цвет. Он знает, что именно цвет преобразует материю, являясь ее подлинной самоактивностью, живущей благодаря постоянному обмену между силами материи и силами света. И поэтому, в силу фатальности изначальных древнейших видений, художник возобновляет великие космические грезы, связывающие человека с миром стихий–элементов — с огнем, с водой, с небесным воздухом, с чудесной материальностью земных субстанций.
Для художника поэтому цвет наделен глубиной, плотностью, разворачиваясь одновременно как в измерении интимности, так и в измерении внешнего преизбытка. И если художник порой играет ровным, как бы плоским, однообразным цветом, то это лишь для того, чтобы рельефнее дать тень, провоцируя мечту об интимной глубине вещи. И беспрестанно, в ходе своей работы, художник выводит наружу сновидения, гнездящиеся на стыке материи и света, сновидения или алхимические грезы, в которых он призывает субстанции, накаляет свечения, сдерживает тона чрезмерно резкие, взвешивает контрасты, в игре которых неизменно обнаруживаются битвы стихий. Тому свидетельством служат различные динамические соотношения красных и зеленых тонов.
Итак, как только сближают фундаментальные темы алхимии, с одной стороны, и решающие интуиции художника, с другой, поражаются их родством. Желтый тон Ван–Гога это — алхимическое золото, на пчелиных крыльях слетевшее с тысячи цветов, приготовленное в качестве солнечного меда. Его желтый цвет никогда не сводится просто к золоту ржи, пламени или соломенного стула: это — золото навсегда индивидуализированное нескончаемыми сновидениями гения. Оно не принадлежит больше миру, являясь достоянием человека, его сердцем, душой, элементарной истиной, обретенной созерцанием в течение всей жизни.
И перед лицом такого создания, являющегося произведением новой материи, обретенным благодаря своего рода чуду колористических сил, все споры о фигуративном и не–фигуративном искусстве излишни. Вещи больше не сводятся к рисунку и окраске. Они сразу же рождаются с цветом, рождаются самим действием цвета. Итак, вместе с Ван–Гогом перед нами выступила онтология цвета. Выбранный судьбой человек отмечен меткой вселенского огня. Именно этим огнем наливаются звезды неба. Да, до неба простирается смелая активность элемента, способного возбудить достаточное количество материи, чтобы превратить ее в новый свет. Ибо именно своей активностью первоэлемент привлекает художника, ставя его себе на службу. И художник делает свой решающий выбор, в котором ангажируется его воля, не изменяющая своей направленности вплоть до окончания произведения. И посредством такого выбора художник достигает желаемого цвета, столь отличного от цвета принятого или копируемого. Желаемый цвет, этот сражающийся цвет, входит, таким образом, в битву первоэлементов.
Посмотрим, например, на битву камня и воздуха.
Однажды Клоду Моне захотелось, чтобы кафедральный собор был действительно воздушным — воздушным в самой своей вещественности, воздушным в самой сердцевине своих камней. И собор взял у голубоватого тумана всю голубую материю, которую туман сам в свою очередь позаимствовал у неба. И в этом переходе голубого цвета живет вся картина Моне, этой алхимией голубизны она жива. Такая мобилизация голубого динамизирует всю базилику. Почувствуйте, как она, своими двумя башнями, дрожит всеми голубыми тонами в безмерности воздуха, посмотрите, как она тысячами оттенков голубого отвечает на все движения тумана. Словно на крыльях поднимается собор в воздух, на покачивающихся голубых крыльях. Он окрылен голубизной полета, волнами подъема. Некоторые его контуры, испаряясь, мягко выходят из подчинения геометрии линий. Поверхностное впечатление не дало бы подобную метаморфозу серого камня в небесный камень. Нужно, чтобы великий художник расслышал глухо звучащие голоса превращений стихий. Чтобы из неподвижности камня возникла драма голубого света.
Конечно, если нет приобщения, из самой глубины материального воображения, к этому преизбытку воздушной стихии, то эта драма элементов, эта схватка земли и неба не будет узнана. И тогда картину обвинят в ирреальности в тот самый момент, когда надобно было бы, чтобы вознаградить созерцание в его работе, погрузиться в самый центр реальности элементов, следуя за художником, за его обращенной к первоистокам волей, безотчетно, целиком отдавшейся вселенской стихии.
И вот в другой раз другое элементарное сновидение захватывает волю художника. Клод Моне хочет, чтобы собор стал световой губкой, вбирающей всеми своими выступами, всеми украшениями охру закатного солнца. И вот в этом новом полотне собор оказывается нежной, рыжеватой звездой, заснувшей в жаркий полдень. Башни собора, устремившись высоко в небо, получили в свое обладание воздушную стихию. И вот они, вблизи от земли, пламенеют подобием хорошо защищенного камнями камина огня.
Ресурсы мечты, возможности грезы, содержащиеся в произведении искусства, подвергаются искажению тогда, когда к созерцанию форм и цветов не присоединяется медитация об энергии материи, вскармливающей форму и отбрасывающей цвет, когда не чувствуют “возбужденного внутренней работой тепла” камня.
И так, от одного полотна к другому, от полотна воздушного к полотну солнечному, художник осуществляет трансформацию материи. Он укоренил цвет в материи, найдя для этого первоэлемент. Он приглашает нас к созерцанию в глубине вещей, призывая к симпатии по отношению к колористическому порыву, динамизирующему объекты. Камень он превратил то в туман, то в тепло. И выражение “здание купается в дымке сумерек” или “в сияющих сумерках” слишком бедно, чтобы выразить суть дела. Для настоящего художника сами объекты творят свою атмосферу, а любой цвет есть свечение, раскрывающее интимную внутренность материи.
И если созерцание произведения искусства хочет постичь сами зародыши творчества, то оно должно проникнуться теми великими космическими решениями, которые глубоко пронизывают воображение человека. Ум чрезмерно геометрический, видение слишком аналитическое, эстетическое суждение, путающееся в специальных терминах, вот те причины, по которым причастность к элементарным космическим силам может быть заблокирована. Эта причащенность тонка и деликатна. И недостаточно созерцания водоема для того, чтобы понять абсолютную материальность воды, чтобы почувствовать, что вода — жизненный, живой элемент, изначальная стихия и первоисточник всякой жизни. И сколько же художников, лишенных специфической чувствительности, требуемой для проникновения в мистерию воду, пишут такую воду, по которой “как по камню плывут утки”, как говорит Бодлер! Проникновение в самую мягкую, самую простую субстанцию нуждается в опыте долгого товарищества с ней и в предельной искренности. И нужно очень много грезить, чтобы понять душу спокойной воды.
Итак, элементы — огонь, воздух, земля и вода, — с давних времен служившие философам, чтобы мыслить великолепие мироздания, остаются и первоначалами художественного творчества. Их воздействие на воображение может показаться слишком отдаленным и метафорическим. И, однако, как только удается установить подлинную причастность произведения искусства к элементарной космической силе, возникает тут же впечатление обнаружения основания единства, подкрепляющего единство и целостность самых совершенных произведений. И действительно, принимая этот зов материального воображения стихий, художник вместе с тем получает естественный зародыш произведения.
Научное издание
ВИЗГИН Виктор Павлович
Эпистемология Гастона Башляра и история науки
Утверждено к печати Ученым советом
Института философии РАН
В авторской редакции
Художник В.К.Кузнецов
Корректоры:Г.М.Аглюмина, Т.В.Прохорова
Лицензия ЛР №020831
от 12.10.93 г.
Подписано в печать с
оригинал–макета 10.10.95.
Формат 70х100 1/32. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Усл.печ.л. 8,25. Уч.–изд.л. 11,14. Тираж 500 экз. Заказ № 038.
Оригинал–макет изготовлен в
Институте философии РАН
Компьютерный набор Т.В.Прохорова
Компьютерная верстка Е.Н.Платковская
Отпечатано
в ЦОП Института философии РАН
119842, Москва, Волхонка, 14