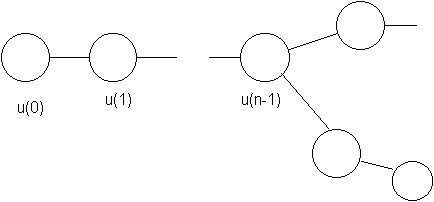
А. И. Белоусов
ЭСТЕТИКА И ТОПОЛОГИЯ
1. Непосредственным стимулом для написания этой работы было прочтение трактата А.Ф.Лосева "Музыка как предмет логики" [1]. Переопубликование этого трактата в 90-ых годах вызвало множество философских и музыковедческих комментариев [2, 3]. Но автору неизвестен сколько-нибудь развернутый математический комментарий к лосевской концепции музыки, что странно, ибо мысль о тождестве музыки и математики буквально пронизывает все исследование Лосева. Предлагаемую читателю статью следовало бы, наверное, снабдить подзаголовком "Вариации на тему "музыка и математика". Название "эстетика и топология" продиктовано как раз одной из важнейших диалектических конструкций Лосева - конструкцией множества , в рамках которой эстетика и топология выступают как науки, изучающие частные аспекты одного и того же - эти две, казалось бы, никак не связанные между собой дисциплины, обретают единую теоретико-множественную основу.
2. Несмотря на то, что статья представляет собой попытку некоторого математического комментария к упомянутому труду Лосева, задачи, которые ставит при этом перед собой автор, являются скорее эстетическими, чем собственно математическими. Человека, воспринимающего произведение искусства, всегда волнует загадка стиля автора: тайна художественного стиля есть в какой-то мере тайна личности творца, и с ней связана и судьба творений, их оценка той или иной эпохой. Почему, например, в свое время возникла мощная бетховеноцентристская волна [4], и мы до сих пор ее слышим, хотя она уже отхлынула? Почему Моцарт, как правило, менее понятен "широкой публике" и менее ею любим, чем Бетховен, Бах, романтики?
С загадкой стиля связаны и известные в истории искусства метафоры-афоризмы , принадлежащие великим художникам или исполнителям, в которых краткой "формулой" определяется тот или иной стиль. Так Гете , прослушав "Хорошо темперированный клавир" Баха, писал Цельтеру: " У меня было такое ощущение, будто сама вечная Гармония беседует сама с собой, как это было, вероятно, в груди Господа до сотворения мира." Удивительно, что это определение баховской музыки почти дословно совпадает с определением логики (лучше сказать - Логоса ), которое дает Гегель в предисловии к своей "Науке логики": " Она [логика] есть изображение Бога, каков он в своей вечной сущности до сотворения природы и какого бы то ни было конечного духа." Не видим ли мы здесь поразительную корреляцию художественной и научной мысли? Наверное, не случайно гетевская метафора серьезнейшим образом анализируется в отнюдь не "метафорическом" фундаментальном исследовании Бобровского [5] в связи с проблемой музыкального времени и сравнением организации этого времени у Баха, Моцарта и Бетховена
Великий пианист А. Шнабель говорил: "Моцарт - сад, Шуберт - лес на солнце и в тени, Бетховен - горный кряж." Но и О.Мандельштам, скорее всего не сговорившись со Шнабелем, писал о "висячих парках с куртинами у Моцарта." Возникает вопрос: что это - только красивые метафоры, более или менее произвольные, к которым мы прислушиваемся лишь потому, что они принадлежат гениальным художникам, или нечто большее? Может быть, это формулы , а не метафоры? Почему Моцарт - сад? Нельзя ли взглянуть на эти художественные определения глазами математика, объяснить их математически? Такая постановка вопроса, на первый взгляд странная, оправдывается, во-первых, существованием несомненной исторической корреляции эстетических и научных идей, во-вторых, логической связью эстетики и математики в рамках объемлющей теоретической конструкции. Откладывая пока обсуждение последней (а ею является уже упоминавшаяся ранее лосевская конструкция множества), рассмотрим более подробно проблему сравнения музыки и математики.
3. Одна из важнейших идей лосевского трактата "Музыка как предмет логики" есть идея о тождестве музыки и математики : музыка не предмет психологии, не "стенограмма чувств", а абстрактная идеальная конструкция - как математика.
Интересно, что великий философ оказался здесь солидарен с великим композитором, а именно, с И.Ф.Стравинским - его философия музыки буквально совпадает с лосевской, хотя вряд ли он был знаком с работами философа. Характеризуя музыкальную форму, Стравинский говорил, что эта форма "гораздо ближе к математике, чем к литературе - возможно не к самой математике, но к чему-то безусловно похожему на математическое мышление и математические соотношения... Музыкальная форма математична хотя бы потому, что она идеальна..."[6]. Наверное, все-таки нужно уточнить: не только "идеальна" (ибо идеальна любая художественная форма), но отвлеченна, абстрактна . Эта абстрактность музыки, как ни парадоксально, лучше всего обнаруживается в художественных текстах не собственно музыкальных, а скажем, в литературных, в произведениях живописи, киноискусства, которые можно назвать "музыкальными" (вспомним, что Т.Манн говорил о "музыкоподобии" своих романов ). Художественный текст тем более музыкален, чем менее он "сюжетен", чем в меньшей степени он апеллирует к конкретному, чем больше он "замкнут на себя", являясь как бы самодовлеющей "ссылочной структурой". Например, фильмы Тарковского или Годара в высшей степени музыкальны, тогда как фильм "Петровка, 38" совершенно не музыкален.
Но музыка, будучи тождественна математике, одновременно и противоположна ей (оговорка Стравинского "возможно, не самой математике, но чему-то безусловно похожему на нее ..." очень показательна). Лосев утверждает, что и музыка, и математика конструируют число, но математика делает это логически , а музыка - гилетически (от греческого hyle - "материя") и художественно-выразительно, символически.
Что такое гилетическое конструирование ? Наверное, самый точный и одновременно образный ответ на этот вопрос содержится в платоновском "Тимее". Рассуждая о возникновении оформленных тел из недр "бесформенной", "незримой" Материи (которая имеет еще имена Кормилицы, Матери, Лона, а также имя Ничто - " to me on" - Меона ), Платон излагает следующую мысль:
"Положим, некто, отлив из золота всевозможные фигуры, без конца бросает их в переливку, превращая каждую во все остальные; если указать на одну из них и спросить, что же это такое, то будет куда осмотрительнее и ближе к истине, если он ответит "золото" и не станет говорить о рождающихся фигурах как о чем-то сущем,- ибо в то мгновение, когда он их именует, они уже готовы перейти во что-то иное..." ("Тимей", 50b).
В этом фрагменте "Тимея" нет ни слова о музыке, но он с порази-тельной точностью характеризует сущность музыкального конструирования. Музыкальные темы подобны платоновским отливкам из золота - мы часто не в состоянии ответить на вопрос "Что это означает?", когда слушаем музыку. Словесные разъяснения музыки с большей охотой отвечают на вопрос "какой?", чем "что?". Стравинский не упускал случая поиздеваться над словесными интерпретациями музыки и говорил: "Музыка сверхлична и сверхреальна и, как таковая, находится за пределами словесных разъяснений и описаний... Музыка выражает самое себя... есть вещь в себе."[6].
Пытаясь охарактеризовать музыкальные образы, мы, согласно Платону и Стравинскому будем осмотрительнее и ближе к истине, если на вопрос "что?" ответим "музыка".
У Лосева читаем: "Когда мы слушаем музыку, то ясно, что, как музыка ни далека от логики, она требует всего того феноменологического аппарата восприятия, какой нужен и для восприятия раздельных вещей в целях логического мышления над ними. И прежде всего тут необходимо особое sui generis восприятие формы... Ясно, ...что перед нами типичный эйдос... Но какой это эйдос? Чего, собственно, эйдос?... Всякое музыкальное произведение таит в себе некий скрытый эйдос [смысл]...эйдос этот, однако, не дан, и в этом - вся музыка." [1, с. 494].
"Алогизм" музыки и ее "непостижимость" давали повод некоторым поверхностным комментаторам говорить, что музыка - "несемантическое" искусство. Это, разумеется, нонсенс, противоречие в терминах. Лучше было бы сказать, что музыка - сверхсемантическое искусство. Отвечая на бесчисленные вопросы "как?", "какой?", мы блуждаем вокруг неведомого "что?", которое иногда приоткрывается. Оказалось, например, что такой пышный цветок абстрактной симфонической музыки как симфонии венских классиков "субстанциально" тождественны классицистскому театру, опере итальянцев XVII столетия и, следовательно, опосредствованно, античной трагедии. Это убедительно доказано в книге В.Дж.Конен "Театр и симфония" [7].
Резюмируя, можно сказать, что и в музыке, и в математике мы имеем дело с самодовлеющими, "замкнутыми в себе" ссылочными структурами, но в математике каждый элемент этой структуры имеет четкий смысл(хотя бы чисто формальный, "интенсиональный" - осмысленный значит доказанный в рамках принятой дедуктивной системы), а в музыке этот смысл принципиально нечеток, лишь гипотетически реконструируем. Всякая интерпретация музыкального текста (и любого художественного текста, приближающегося по своей "алогичности" и "несемантичности" к музыке) принципиально является прерванной. Заметим, что термин "ссылочная структура" в рассматриваемом контексте можно вполне строго определить как некоторое множество вместе с заданным на нем отношением предпорядка т.е. рефлексивным и транзитивным, но вообще говоря не антисимметричным ( для всякого А А "ссылается" на себя само, если А "ссылается" на Б, а Б "ссылается" на В, то А "ссылается" на В, но из того, что А "ссылается" на Б, а Б "ссылается" на А не следует в общем случае, что А и Б совпадают).
Охарактеризованная таким образом противоположность музыки и математики выражается и в результатах труда математика и композитора. Математик, вполне гилетически, "алогично" изобретающий новые теоремы, придает математическому тексту предельную логическую ясность, а композитор создает как бы вторичную гилетическую конструкцию, служащую шифром, кодом, символом некоторого скрытого смысла. И именно эта символичность музыки является, по Лосеву, решающим фактором, отделяющим музыку от математики.
Наша характеристика диалектического тождества ("тождества-противоположности") музыки и математики была бы неполной, если бы еще не подчеркнули взаимной устремленности этих двух сфер друг к другу. В недрах математики дремлет "гилетическая стихия", размывающая самые основы ее логически безупречных построений и, с другой стороны, позволяющая математику придумывать правильные теоремы, которые он не в состоянии немедленно доказать. А музыка, как заметил еще Т.Манн в "Докторе Фаустусе", из сферы своей "алогичности", из "прикованности к миру чувств" рвется к кристальным построениям математики. В современной музыке мы имеем яркий пример такой "математической" музыки, математичность которой, что очень важно, открыто декларирована автором - творчество С.Губайдулиной (следует прочитать хотя бы авторское пояснение к скрипичному концерту, названному "Offertorium").
4. Таким образом, налицо противоположность музыкального и математического конструирования. Но по всем правилам диалектики (не забудем, что Лосев, труд которого мы комментируем, был диалектиком) эти противоположности должны проникать друг в друга: гилетическая конструкция должна проникнуть в математику, которая как таковая есть парадигма логического конструирования, а логическая конструкция должна содержаться в сфере музыки, являющейся парадигмой гилетического конструирования.
Что же является гилетической конструкцией в математике?
Здесь прежде всего необходимо сказать о гилетическом конструировании числа в процессе измерения, хотя эта конструкция и не лежит в области самой теоретической математики. Если представить, что некто разбросал перед нами всевозможные геометрические тела, и нам надлежит измерять их размеры, то получится картина, подобная вышеприведенной платоновской: из нерасчлененной "бездны" ("континуума") изнедряются конечные (до конца понятные, анализируемые ) структуры - рациональные числа, но числовая "алогическая" бездна никогда не освобождает до конца эту ясную форму: мы имеем дело всякий раз с некоторой рациональной аппроксимацией истинного размера аналогично тому, как мы имели дело с "аппроксимацией" смысла музыкального образа, выбрасываемого, но тут же и поглощаемого бездной музыкального "континуума" (разумеется, характер аппроксимации при интерпретации музыкального текста и при измерениях совершенно различный!).
Если же теперь мы обратимся к теоретическому конструированию числа (ограничимся здесь вещественными числами, определяемыми в рамках классической математики), то увидим два, как бы зеркальных, способа такого конструирования. Первый способ состоит в следующем. Сначала определяются натуральные числа как множества 0 = ? , 1 = {0}, 2 = {0, 1},... и определяются арифметические операции над ними. Затем полукольцо натуральных чисел вкладывается в кольцо целых, а это последнее - в поле рациональных. Далее строится уже топология рациональной прямой, и, наконец, вещественная прямая определяется как пополнение рациональной [8]. Тем самым вещественное число априорно конструируется как предел последовательности рациональных чисел.
Эта конструкция числа абстрагирует способность счета и делает попытку экстраполировать эту способность на несчетную бесконечность.
Конечное "внедряется" в бесконечное, от последовательности мы переходим к пределу. Это "logos" числа в классической математике.
Второй способ конструирования состоит в том, что вещественная прямая сразу аксиоматически определяется как непрерывное упорядоченное поле [9]. Рациональная прямая тогда "извлекается" ("изнедряется"!) из вещественной и уже доказывается как теорема результат о представлении каждого вещественного числа как предела некоторой последовательности рациональных чисел.
Эта конструкция числа абстрагирует способность измерения.
Конечное "изнедряется" из бесконечного, от предела мы переходим к последовательности. Это "hyle" числа в классической математике.
Рассматривая эту последнюю конструкцию, нужно обратить внимание на следующие обстоятельства. Во-первых, несмотря на то, что вещественная прямая сразу определяется априори посредством некоторого набора алгебраических (поле) и топологических (непрерывность и порядоченность) свойств, перед нами типичная неопределенная числовая бездна наша аксиоматика не позволяет дать ответ на вопрос, "что такое вещественное число?", а позволяет только сказать, какими свойствами, по определению, обладают вещественные числа. Опять типичная платоновская ситуация гилетического конструирования: дается не субстанциальная, а акцидентальная характеристика конструируемой формы. Во-вторых, на пути этого конструирования удерживается вся логико-алгебраическая конструкция рационального числа, знакомая нам по первому способу. Другими словами, "logos" фигурирует здесь как момент в "hyle". Это очень важно понимать: Некто, таинственный платоновский персонаж, отливающий фигуры из золота, чтобы смастерить фигуру, должен иметь в себе некий ее "чертеж", идеальный прообраз ("эйдос"), но он должен и расчленить, проанализировать "до конца" этот эйдос, чтобы воплотить его в материи. Он должен владеть логосом того тела, который он строит: только тогда он "вытащит" его из "бесформенной" материи. Только до конца построив логико-алгебраическую структуру рационального числа, мы можем доказать теорему о представлении вещественного числа как предела, тем самым "вытащив" рациональные числа из первоначальной "числовой материи". Кстати, и в первую "логическую" конструкцию Ничто проникает в виде пустого множества. Здесь "меон" - исходная предпосылка.
5. Но, может быть, с наибольшей отчетливостью противоположность логического и гилетического в математике обнаруживается в топологии на примере пространств, именуемых дисконтинуумами.
Дисконтинуум A? есть пространство всех бесконечных последовательностей элементов из конечного множества ("алфавита") A с топологией, вводимой через метрику
? (u, v) = 2-n,
где n = inf i ? 0 {i | u(i)? v(i)} и u = u(0)u(1)...u(n)..., v = v(0)v(1)...v(n)..., причем, как доказывается, та же топология получится, если взять ? -овую декартову степень дискретного пространства A. В частности, при A = 2 = {0, 1} получим так называемый канторов дисконтинуум.
Пространство A? :1) нульмерно, 2) вполне несвязно и 3) совершенно, т.е. 1) каждая точка имеет сколь угодно малую окрестность с пустой границей, 2) базис топологии образуют открыто-замкнутые множества ("цилиндры"), состоящие из всех последовательностей с одним и тем же началом [u]n = u(0)...u(n-1), n > 0 (см. рис. 1), 3) нет изолированных точек.
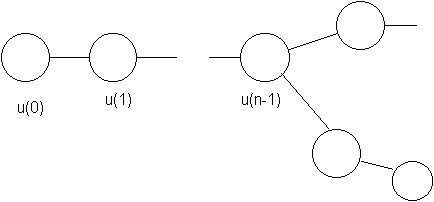
Рис. 1
Кроме того, любой дисконтинуум является компактом.
Дисконтинуум A? может рассматриваться как подпространство пространства A? = A* ? A? всех последовательностей из некоторого (вообще говоря, не обязательно конечного) множества A, где A* есть множество всех конечных последовательностей элементов A, включая пустую последовательность. Метрика в A? вводится аналогично:
? (u, v) = 2-n,
где n = inf i ? 0 {i | u(i) ? v(i) или в точности один член u(i) или v(i) не определен}, причем ? (? , ? .) = 0.
В частности, при A = N (множеству натуральных чисел) в качестве подпространства N? (не являющегося дисконтинуумом в виду нарушения свойства компактности) получим так называемое бэровское пространство.
Пространство A? остается нульмерным и вполне несвязным, но перестает быть совершенным, так как каждая конечная последовательность является в нем изолированной точкой. Но в то же время конечные последовательности образуют в A? счетное всюду плотное множество и являются в этом смысле аналогами рациональных чисел на вещественной прямой, но последние, разумеется, не суть изолированные точки в топологии числовой прямой.
Описанное здесь пространство A? оказывается в настоящее время одной из фундаментальнейших структур в теории алгоритмов и семантике формальных языков[10, 11]. В терминах этого пространства строится теория нульмерных динамических систем [10], в рамках которой изучается и понятие алгоритма, и классификация автоматов сводится к классификации нульмерных динамических систем. Последние особенно важны, ибо доказывается [10], что любая динамическая система есть непрерывный образ некоторой нульмерной динамической системы (при условии, что рассматриваются только компактные пространства). Кроме того, известно, что канторов дисконтинуум 2? есть одна из важнейших структур метаматематики (см., в частности, теорему о представлении классических булевых алгебр [12]), а бэровское пространство играет фундаментальную роль в исследовании модальных и интуиционистских логик [12].
Можно утверждать, что на базе теории дисконтинуумов строится некоторая метатеория логического вывода, и элементы дисконтинуумов рассматриваются как "протоколы" вычислений или выводов в некоторой формальной системе . Тем самым эта теория дает нам топос логоса, а если дисконтинуум представить наглядно в виде бесконечной, но конечно ветвящейся сети (см. рис. 2), то получим картину, если угодно, эйдос логоса, даваемый математикой.
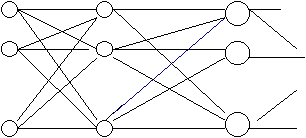
Рис. 2
Известная метафора "сеть логических понятий" получает точный математический смысл.
Но дисконтинуумы, равно как и бэровское пространство, можно строить не только априорно, логически, как это описано выше, но и "гилетически", извлекая, "изнедряя" их из одномерной числовой прямой как подпространства с индуцированной топологией: канторов дисконтинуум оказывается тогда гомеоморфен канторову совершенному множеству (получаемому из отрезка [0, 1] по известной процедуре выбрасывания "средних интервалов"), а бэровское пространство гомеоморфно подпространству всех иррациональных чисел. Разумеется, здесь речь идет не о собственно гилетической конструкции (как это имеет место в музыке), а о об образе гилетической конструкции в рамках логической, о hyle внутри logos'а.
Итак, даваемый математикой образ логического конструирования это априори определяемое нульмерное пространство "логических выводов"(в частности, дисконтинуум), тогда как даваемый математикой же образ гилетического конструирования - это нульмерное пространство как подпространство пространства ненулевой размерности, топологическая пара (скажем, <[ 0, 1], 2? >), в которой уже дисконтинуум как чистая форма исчезает и становится, как сказал бы Лосев, меонально ознаменованным. Это, уже с философской точки зрения, некая форма на фоне небытия, выступающая из этого фона ("меона"), но не "отпускаемая" им. Задумаемся теперь над вопросом, что является символом логического конструирования в музыке?
Необходимо подчеркнуть, что речь идет не о логике музыкальной композиции в целом, для понимания которой необходим "глобальный" анализ произведения и уж совсем не о логике музыкально-теоретических построений, а о непосредственно слышимом или видимом (в нотной записи)образе, именно символе логоса в музыке.
Есть основания считать, что таким символом является полифония, прежде всего полифония так называемого строгого стиля (XV - XVI вв.). Так акад. Б.Асафьев писал, что полифония дает метод продвижения музыкального материала из единой предпосылки (принцип "cantus firmus")[13], т.е., по существу и организует музыкальный текст как ссылочную структуру. Замечательно, что выдающийся итальянский музыкальный мыслитель XVI века Царлино сравнивал пропосту в канонической имитации с посылкой, а риспосту - с заключением некоторого силлогизма [14]. В. Холопова подчеркивает, что "полифоническая техника становится как бы формулой, заключающей в себе идею совершенной музыки." [6]. Не случайно, что и внешний графический облик полифонической фактуры идентичен графическому образу Логоса, даваемому топологией: музыка в виде полифонической фактуры дает тот же эйдос логоса, что и теория дисконтинуумов.
Эта непосредственность восприятия полифонии очень важна: мы даже можем не знать, что имеем дело, скажем, с имитационной полифонией, но воспринимать ее ухом или глазом как полифонию. Об этом прекрасно написано в романе Т.Манна "Доктор Фаустус". Конечно, непосредственно мы воспринимаем не сложную полифоническую форму (такую, как фугу), а саму полифоническую фактуру, если угодно, материю полифонии.
Оговоримся, что наличие полифонического склада само по себе недостаточно для выражения логоса (вспомним гетевское восприятие фуг Баха): так и в математике структура канторова дисконтинуума есть одна из важнейших структур метаматематики, но не всякий раз, занимаясь канторовым дисконтинуумом, мы занимаемся метаматематикой.
7. Итак, мы можем нарисовать диаграмму (рис. 3).

Рис. 3
Математика "моделирует" саму себя (1) - это феномен метаматематики; математика "моделирует" музыку (2) в виде гилетических конструкций в рамках математики (феномен гилетической математики); музыка "моделирует" математику (3) - феномен полифонии (прежде всего, чистой полифонии строгого стиля). Но что такое стрелка (4), замыкающая диаграмму?
Это должен быть феномен музыки, моделирующей саму себя, или феномен метамузыки . Что же такое метамузыка - изображение средствами музыки гилетической конструкции при условии, что музыка сама по себе есть парадигма гилетического конструирования?
Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним о соотношении logos - hyle в математике. Если logos в математике ассоциируется с чистой нульмерностью, а именно с определенным априори пространством конечных и бесконечных последовательностей элементов некоторого "алфавита", то hyle - с нульмерным пространством как подпространством одномерного (или, более общо, пространства положительной топологической размерности), топологической парой <пространство положительной размерности, его нульмерное подпространство>. Образно говоря, гилетическая конструкция в математике - это нульмерное пространство, извлеченное ("изнедренное") из одномерного, нульмерность на фоне одномерности, которая выступает в такой конструкции как меон, а само нульмерное подпространство (например, дисконтинуум) оказывается "меонально ознаменованным". Тогда, переходя в "музыкальную категорию", получаем, что коль скоро музыкальный коррелят чистой нульмерности - чистая полифония, то метамузыкальная конструкция должна реализовывать себя как полифония на фоне неполифонии. Это должны быть, образно говоря, "сгустки полифонии", "гомологическая последовательность" полифонических эпизодов на "оси" неполифонического времени. Неполифония, "отсутствие" полифонии выступает в данном случае как лотмановский "минус-прием" [15].
Интересно, что такая музыкальная форма подробно "эмпирически" описана музыковедами: В. Протопопов называет ее большой полифонической формой и утверждает, что классический вид эта форма приняла у Моцарта [16]. Аналогично этому эволюция полифонии строгого стиля привела к высшей чисто полифонической форме - фуге, величайшим мастером которой (но уже в рамках так называемого "свободного стиля") по сию пору считается И. С. Бах. Разумеется, большая полифоническая форма (БПФ) существует отнюдь не только у Моцарта (равно как не только Бах писал фуги), и ее использование может дать (равно как и применение формы фуги) самые разные художественные результаты (многообразие этих результатов, если угодно, "художественных интерпретаций" БПФ, видно в творчестве одного только Моцарта) - рассмотрение их не является предметом данной статьи.
Но БПФ имеет, так сказать, "свободную интерпретацию", объясняет сама себя: она может быть, с философской точки зрения, описана как процесс возникновения и исчезновения неких "форм", "тел", "структур" из "хаоса", "неструктурированного" меона. Интересно при этом, что иногда (как раз в высших проявлениях этой музыкальной формы) созидаемые "структуры" устремлены к некоторой "предельной структуре", показывая как бы процесс становления, постепенной кристаллизации последней точно так, как "изнедряемые" в процесс измерения из дологической числовой "бездны" рациональные числа устремлены к некоторому пределу -вещественному числу, "истинному" размеру. Резонанс "свободной" (философской) и "содержательной" (художественной) интерпретаций БПФ имеет место, например, в двух величайших творениях Моцарта: симфонии до мажор, известной под названием "Юпитер", где показан процесс становления сложнейшего и математически кристально выстроенного "пятиголосного и пятитемного фугато" в конце финала [16], а всю симфонию можно воспринимать как хвалу творящему Духу ("Veni, creator spiritus!"), Мастеру, Зодчему; и опере "Так поступают все женщины"("Cosi fan tutte"), где показан аналогичный процесс кристаллизации строгого канона, символизирующего одновременно венец развития глубокого любовного чувства. Похожие "гомологические ряды" полифонических фрагментов исследователи находят и в музыке Стравинского (см., например, анализ Кантаты на староанглийские тексты в [6] или авторское определение второй части Симфонии псалмов как "перевернутой пирамиды из фуг." [17]).
Таким образом, БПФ есть как таковая музыкально-формальный символ становления и метаморфоз. Но это и есть сад, точнее, логический прототип сада, его, как говорят мифологи, "архе" . Сад - это принципиальная неоднородность пространства, постоянная пульсация тела и породившего его логоса, все время возобновляемая перемена точки зрения: "извне - изнутри". С топологической точки зрения сад - это нульмерный континуум в одномерном, и если смотреть "извне", то точка нульмерного континуума - это "точка на прямой", а взгляд "изнутри" превращает эту точку в процесс, в последовательность. Происходит, таким образом, постоянная пульсация сосредоточения и рассеяния: точка развертывается в мир, а мир свертывается в точку.
Тут вспоминается замечательное четверостишие О. Мандельштама:
И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин,
И мнимое рву постоянство,
И самосознанье причин.
Это значит, что взгляд "извне" мы заменяем взглядом "изнутри", от геометрии переходим к логике, от одномерного - к нульмерному, от тела - к логосу, от статуи - к замыслу ваятеля. Сад, таким образом, можно понимать как зрительно непосредственно воспринимаемый образ гилетического конструирования. Если угодно, застывшая музыка - это не архитектура, а сад: не случайно у Марселя Пруста тайна музыки сплетается с тайной сада. Становится совершенно ясным, почему Мандельштам, как и Шнабель, считал, что Моцарт - сад.
Можно тогда сказать, что эстетика сада - эстетика становящегося Космоса, Космоса, творимого Демиургом (см. "Тимей" Платона). Напротив, эстетика логоса дает изнутри "изображение Бога, каков он есть в своей вечной сущности." Наконец, мы получим "объектную" эстетику, если будем смотреть только "извне" - однородное пространство-время с макротелами в нем и нерушимыми, четкими границами - эстетика реалистического портрета. Но это же эстетика контраста - борьбы и сопоставления разнородных начал (метафорически: "горный кряж", "лес на солнце и в тени"...).
Разумеется, что лишь бегло обозначенные здесь эстетические типы, полученные в результате некоторого теоретического анализа, должны быть подвергнуты обстоятельному историческому рассмотрению: необходимо проанализировать исторические типы "логического" и "гилетического" стилей как в музыке (и в искусстве вообще), так и в математике (и в науке вообще).
8. В заключение рассмотрим коротко лосевскую диалектическую формулу множества, в рамках которой эстетика и топология получают единую теоретико-множественную основу и оказываются науками, изучающими один и тот же феномен в различных аспектах.
Критикуя "наивное" канторовское пояснение идеи множества, Лосев выводит следующую диалектическую формулу (вывод этот базируется на платоновском "Пармениде"):
Множество - это единичность, данная как подвижной покой самотождественного различия.
Здесь нет возможности подробно комментировать эту формулу. Нужно лишь отметить, что множество, рассмотренное в аспекте единичности есть эйдос, рассмотренное в аспекте подвижного покоя множество есть число, а рассмотренное в аспекте самотождественного различия есть топос
Соответственно различаются и науки, изучающие категорию множества в указанных аспектах: 1) наука об эйдосах есть эйдология, или эстетика; 2) наука о числах есть аритмология и 3) наука о топосах есть топология.
Лосевская формула, скорее всего, нуждается в уточнении в свете современной науки (прежде всего, с позиций современной математики).Так, если эстетику считать наукой о способах задания множества как единства, то теорию моделей придется считать частью эстетики, хотя несомненно, что фактор единства является одним из фундаментальнейших при эстетической оценке явлений: известно, например, что Эйнштейн вводил критерий "эстетического оправдания" научной теории, согласно которому теория тем ближе к истине, чем из меньшего числа априорных предпосылок она выводится. Выстраивая теоретическую физику на основе единого принципа наименьшего действия, Ландау и Лифшиц придерживаются именно этого эйштейновского критерия. В известном смысле можно утверждать, что эстетическое - это "точечное", стянутое к некоторому всеобъемлющему единству. Можно, однако, предложить такое уточнение понятия эстетики: эстетика есть наука о внепонятийных методах конструирования многого как единого.
Важен именно аспект внепонятийности (вспомним об эстетических рассмотрениях Канта в "Критике способности суждения"), но и сформулированное уточнение нужно еще уточнять - речь должна идти об истолковании термина "внепонятийный". Художественное произведение "стянуто" некоторым "гилетическим формализмом", столь же жестким, как и формализм математической теории, но данным вне идеологии, вне понятий. Характерно, что на такую "безыдейную", "формальную" целостность художественного произведения обращал сугубое внимание Лев Толстой, которого принято числить по ведомствам "идейности" и "реализма" (см.[15]).
Что же касается науки, названной Лосевым аритмологией, то это -современная теория множеств (включая теорию трансфинитных чисел), и то, что Лосев называет числом, есть, по существу, ординал.
Характеризуя топологию как науку о "топосах", Лосев тем самым объявляет сущностью топологии задачу различения двух точек и, следовательно, задачу достижимости (связности). На наш взгляд, суть топологии таким образом схвачена достаточно точно.
Итак, в свете лосевской формулы (повторенной им во всех ранних трактатах и особенно подробно проанализированной в "Античном космосе..."), эстетика и топология логически связываются между собой на единой теоретико-множественной основе. Следовательно, необходимо существует соответствие между топологическими и эстетическими (эйдологическими) структурами, некий "функтор" из категории топологических пространств в "категорию" эстетических структур (художественных текстов). В данной статье мы и рассмотрели соответствие между определенными топологическими пространствами и музыкальными формами.
Литература
1. А. Лосев. Музыка как предмет логики // А. Ф. Лосев. Форма, стиль, выражение. - М.: Мысль, 1995.- С. 405 - 602.
2. К. Зенкин. Музыка и наука в философском творчестве Лосева // Муз. академия. - 1994.- N 5.- С. 115 - 125.
3. Ю. Холопов. О формах постижения музыкального бытия // Вопр. философии. - 1993.- N 4.- С. 106-114.
4. И. Соллертинский. Исторические типы симфонической драматургии // Из истории советской бетховенианы. - М.: Сов. композитор, 1972.- С. 148-149.
5. В. Бобровский. Тематизм как фактор музыкального мышления. - М.: Музыка, 1989.
6. В. Холопова. "Классицистский комплекс" творчества И.Ф. Стравинского в контексте русской музыки // И. Ф. Стравинский. Статьи. Воспоминания. - М.: Сов. композитор, 1985.- С. 40-68.
7. В. Конен. Театр и симфония. - М.: Музыка, 1975.
8. Н. Бурбаки. Общая топология. Топологические группы, числа и связанные с ними группы и пространства. - М.: Мир, 1969.
9. Л. Кудрявцев. Курс математического анализа. В 3 т. Т.1.- 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1988.
10. P. Kurka. A Comparison of Finite and Cellular Automata // Lect. Notes in Comput. Sci.- 1994.- N 841.- pp. 484-493.
11. А. Белоусов. К понятию алгоритмического пространства // Труды 2-ой Международной научно-техн. конф. "Актуальные проблемы фундаментальных наук". - Т.2, ч. 2.- М.: Техносфера-информ, 1994.- С. 25-28.
12. Е. Расева, Р. Сикорский. Математика метаматематики. - М.: Наука, 1972.
13. Б.Асафьев (И. Глебов). Музыкальная форма как процесс. - М.: Муз. сектор, 1930.- С. 26-27.
14. История полифонии в 7 вып. Вып. 2-Б. Музыка эпохи возрождения / Дубравская Т.- М.: Музыка, 1996.- С. 19.
15. Ю.Лотман. Анализ поэтического текста // Ю.М.Лотман. О поэтах и поэзии. - СПБ: Искусство, 1996.- С. 18 - 253.
16. История полифонии в 7 вып. Вып. 3. Западноевропейская музыка XVII - перв. четв. XIX в. / Вл. Протопопов.- М.: Музыка, 1985.- С. 346-388.
Б.Ярустовский. Игорь Стравинский.- М.: Сов. композитор.- 1968.- С. 203.