В.А. Суровцев
Автономия логики:
Источники, генезис и система
философии раннего Витгенштейна
Томск: Изд-во Томского университета, 2001
СОДЕРЖАНИЕ
Введение……………………………………………………………………………………. 4
1. ИСТОЧНИКИ: Г.ФРЕГЕ И Б.РАССЕЛ……………………………………… 22
1.1. Г.Фреге: Создание новой логики и программа логицизма… 23
1.1.1. Искусственный язык логики………………………………………………….. 25
1.1.2. Функция и предмет…………………………………………………………….. 30
1.1.3. Теория смысла…………………………………………………………………. 37
1.1.4. Суждение………………………………………………………………………... 41
1.1.5. Антипсихологизм………………………………………………………………. 45
1.1.6. Законы логики………………………………………………………………….. 49
1.1.7. Определение числа………………………………………………………….... 51
1.2. Б.Рассел: Онтология, эпистемология, логика…………………... 54
1.2.1 Онтологика отношений……………………………………………………….. 55
1.2.2 Логика и ‘чувство реальности’………………………………………………. 60
1.2.3 Теория типов…………………………………………………………………… 61
1.2.4 Коррекция определения числа и аксиома бесконечности……………... 64
1.2.5 Логические фикции и аксиома сводимости……………………………….. 64
1.2.6 Примитивные значения и теория дескрипций……………………………. 67
1.2.7 Эпистемологическая функция суждения………………………………….. 73
1.2.8 Логические объекты…………………………………………………………… 75
2. ГЕНЕЗИС: ОТ ЗАМЕТОК К ТРАКТАТУ…………………………………… 79
2.1. «Заметки по логике»………………………………………………………… 79
2.2. «Заметки, продиктованные Дж.Э.Муру в Норвегии»………… 119
3. СИСТЕМА: ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ТРАКТАТ……………………. 137
3.1. Проект: Логика языка versus логика мышления………………. 137
3.2. Знаковая система: От синтаксиса к онтологии………………… 151
3.2.1. Синтаксис элементарного предложения…………………………………. 152
3.2.2. Изобразительная теория предложений…………………………………... 167
3.2.3. Онтологические следствия изобразительной теории………………….. 175
3.2.4. ‘Сказанное’ и ‘показанное’…………………………………………………... 186
3.2.5. Операциональный принцип контекстности………………………………. 192
3.3. Знаковая система: Логика предложений…………………………. 194
3.3.1. Знак предложения…………………………………………………………….. 195
3.3.2. Функции истинности и операции истинности…………………………….. 201
3.3.3. Логическое следование……………………………………………………… 209
3.3.4. Вероятность…………………………………………………………………… 213
3.3.5. Редукция……………………………………………………………………….. 215
3.3.6. Общность………………………………………………………………………. 217
3.3.7. Тождество……………………………………………………………………… 221
3.3.8. Пропозициональные установки…………………………………………… 225
3.3.9. Общая форма предложения………………………………………………. 229
3.3.10.Тавтология и противоречие……………………………………………. 231
3.4. Логика: Концептуализация теоретического…………………… 236
3.4.1. Предложения логики……………………………………………………….. 237
3.4.2. Предложения математики………………………………………………… 244
3.4.3. Предложения естествознания……………………………………………. 256
3.5. Этика: Деконцептуализация практического…………………… 267
3.5.1. Солипсизм……………………………………………………………………. 269
3.5.2. Ценности……………………………………………………………………… 277
3.5.3. ‘Мистическое’………………………………………………………………… 284
3.6. Итог: Философия как деятельность………………………………. 291
Заключение……………………………………………………………………………. 296
Литература………………………………………………………………………………… 299
«Она пошла в книжный магазин и спросила у продавца самую глубокую книгу, которая имелась в его лавке. Она получила трактат некоего Витгенштейна и не нашла ему никакого применения».
Патрик Зюскинд Тяга к глубине.
«Одно из главных умений философа – не заниматься теми вопросами, которые его не касаются».
Л.Витгенштейн Дневники 1914-1916.
ВВЕДЕНИЕ
Философия раннего Витгенштейна вызывала и продолжает вызывать интерес исследователей своей концептуальной завершённостью, что столь не характерно для философских штудий двадцатого века. Это обстоятельство делает её исключительно важным объектом для исследования генезиса новых философских движений, создавших панораму современной мысли. Если часть действительно даёт представление о целом, то философия раннего Витгенштейна демонстрирует замечательный пример системы, лежащей в основании одного из наиболее распространённых течений современной мысли – аналитической философии. Причём систематичность и концептуальная завершённость взглядов мыслителя даёт уникальную возможность проследить все достоинства и недостатки последней, так как, несмотря на разноречивость онтологических представлений, лежащих в основании достаточно разнородных её ответвлений, аналитическую философию характеризует единый методологический мотив, определяемый целью исследования различных языковых практик.
Исторически сложилось так, что идеи, высказанные в Логико-философском трактате, основном произведении раннего Витгенштейна, служили отправным пунктом (либо в качестве позитивной основы, либо как приложение критических усилий) развития тем, занимающих философов-аналитиков. Сообразно установкам и преобладающим мотивам этим идеям (как в целом, так и в частности) придавалась различная, зачастую прямо противоположная интерпретация. Без преувеличения можно сказать, что философия раннего Витгенштейна одна из самых изученных философских систем. Однако последнее не раз приводило к конфликтам в интерпретации как общей направленности этой системы, так и отдельных её положений. Тем не менее взгляды австрийского философа дают возможность оценить тенденции развития аналитической философии и перспективы её дальнейшего существования в целом.
Под философией раннего Витгенштейна мы здесь будем понимать совокупность идей, высказанных им в работах, заметках, дневниках и письмах в течении 1913-1921 годов и получивших наиболее полное воплощение в Логико-философском трактате (1918 год). Эти материалы неоднородны. Многие из них можно рассматривать лишь как подготовительные, а значит и не вполне адекватные выражению мысли. Однако они дают отчётливое представление о проблемном поле, сформировавшем взгляды философа, особенно тех разделов его системы, которые касаются проблемы ‘невыразимого’. Хорошим подспорьем в понимании ранних взглядов служат и более поздние труды (особенно работы конца 20-х - начала 30-х годов), в которых Витгенштейн полемически заостряет формулировки своих ранних работ, выступая их самым непримиримым критиком.
Витгенштейн относится к числу тех не многих, кто в течение жизни пытался реализовать две различные философские программы. Соответственно менялось и его отношение к комплексу представлений, высказанных им в ранний период. Пожалуй никто столь безапелляционно не настаивал на абсолютной истинности высказанных им идей, чтобы потом их столь же непримиримо отрицать. В 1918 году в предисловии к Логико-философскому трактату он писал, что «истинность изложенных здесь мыслей кажется мне неоспоримой и окончательной. Стало быть, я держусь того мнения, что поставленные проблемы по существу решены окончательно». Через несколько лет, отзываясь об этой же работе в приватной беседе, он уже придерживался прямо противоположного мнения, высказываясь на её счёт в том смысле, что “каждое предложение этой книги - симптом болезни”[1].
Было бы однако совершенно неверным делать отсюда вывод, что Витгенштейн перестал считать значительными результаты достигнутые в ранний период. Много позднее, готовя к публикации Философские исследования, в которых концептуально оформились его поздние взгляды, он в предисловии пишет о своём желании опубликовать под одной обложкой старые и новые мысли, считая первые до конца продуманной альтернативой последних[2]. В своих поздних заметках Витгенштейн не раз возвращается к идеям, высказанным в Логико-философском трактате как к примеру, на котором оттачивалась его аргументация. И в этом отношении можно говорить о целостности развития его мысли. Но если поздние взгляды Витгенштейна в настоящее время задают фон практически всех движений философской мысли в англоязычных странах, то его ранняя философия с середины 60-х годов вписана в реестр историко-философских исследований. Причём она не только неоднократно интерпретирована, что представляла бы её лишь как одно из многих направлений в рамках аналитической философии но и кодифицирована (терминологически, тематически и исторически)[3], что выводит её на уровень определённого эталона, сравнимого с лучшими образцами западноевропейской философии.
Независимо от предлагаемых интерпретаций, философия раннего Витгенштейна осознаётся как своеобразная концепция, отличающаяся как по целям, так и по результатам от современных ей и в чём-то сродных течений (например, логического атомизма Б.Рассела или логического эмпиризма Венского кружка). Следовательно, она представляется как экземплификация определённого аналитического метода. Однако любая интерпретация философии раннего Витгенштейна сталкивается с рядом проблем.
Во-первых, сложность и даже эзотеричность ранних работ связана с использованием символического аппарата, идей и методов современной логики. Последнее обстоятельство позволило Г.Райлу, одному из учеников Витгенштейна, как-то заметить, что «Трактат в значительной мере закрытая книга для тех, кто не понимает его технического оснащения. Редко кто может прочитать его без чувства, что происходит нечто важное, но лишь некоторые могут сказать, что именно»[4]. Поэтому любой сколько-нибудь подробный анализ философии раннего Витгенштейна предполагает основательное знакомство с аппаратом современной логики. Действительно, исходный пункт размышлений Витгенштейна, несмотря на многообразие следствий, выходящих за рамки сугубо внутренних потребностей логики, по сути сводится к интерпретации достижений современного формально-логического аппарата, предложенного Фреге и Расселом взамен традиционного, берущего начало ещё с Аристотеля. Витгенштейн и сам внёс достаточный вклад в развитие технических приёмов логики, в частности, разработав метод истинностных таблиц и применив его к теории логического вывода. Интересно, однако, что эти достижения были мотивированы не просто внутренними потребностями логики, но в значительной степени связаны с сугубо философским движением его мысли.
Вторая проблема относится скорее к стилевым, нежели к содержательным особенностям ранних работ. Она не так проста, как кажется на первый взгляд. В Дневниках от 9.11.1914 Витгенштейн писал: «Причиной моих лучших открытий было то, что я хотел бы назвать сильным схоластическим чувством»[5]. Что бы ни понимал в данном случае под схоластическим чувством сам автор, у читателя как Трактата, так и других работ возникает ощущение, что они специально писались как бы предполагая будущий комментарий. Основной текст раннего Витгенштейна представляет собой совокупность упорядоченных и пронумерованных афоризмов, содержащих внутренние отсылки. Структура Логико-философского трактата не имеет аналогий в западной традиции и скорее напоминает классические тексты индийских философских систем, которые специально создавались таким образом, чтобы каждое положение сопровождалось и в значительной степени прояснялось последующим комментарием, зачастую написанным самим автором текста. Подобных автокомментариев Витгенштейн не оставил. Скорее, он затемнил суть дела, указав принцип нумерации афоризмов, где каждый номер не только отсылает к главной мысли, к которой относится данное замечание, но и субординирует её в рамках тематического раздела. Подобный ход придавал видимость того, что экспозиция развиваемых идей задана однозначно, где главные ходы мысли начинают рубрикации, а второстепенные образуют их фурнитуру, в соответствии с нумерацией развивая содержание основных. И поскольку в композиционном единстве Логико-философскому трактату не откажешь, это было бы вполне оправдано, если бы сам Витгенштейн, как показали исследования, сплошь и рядом не отступал от принятой им системы компоновки афоризмов.
По-видимому, окончательно разрушил миф об однозначной композиционной определённости Трактата Э.Стениус, продемонстрировав это на множестве примеров[6]. Считая, что Витгенштейн «скорее чувствовал, нежели точно знал», как нужно расставить афоризмы, Стениус передаёт процесс организации этого произведения во власть художественного гения, сравнивая композиционное единство Трактата с композиционным единством музыкального произведения, где есть свой ритм, с главными и второстепенными темами, тональностями, темпом и т.д., регулируемыми нумерацией.
Замечания Стениуса стали ещё более основательными после того, как Г.-Х. фон Вригтом была обнаружена и опубликована одна из ранних версий Трактата, где целый ряд фрагментов упорядочен и пронумерован совершенно по-иному[7]. Впрочем, данные замечания нисколько не противоречат установке самого Витгенштейна, который ещё в заметках 1913 года не считал философию дедуктивной наукой. Он, в частности, писал: “В философии нет умозаключений; она – чисто дескриптивна”[8]. В самом деле, строгой последовательной экспозиции можно было бы ожидать лишь тогда, когда связь афоризмов представляла бы собой связь посылок и заключений. Но Логико-философский трактат – это тот случай, когда последовательность изложения нельзя оправдать дедукцией из очевидных оснований, поскольку сами эти основания есть лишь следствие автономности логики, т.е. определённой философской установки, которую Витгенштейн положил в основание своей конструкции. Отсюда и дескриптивный характер ранних работ с их системой перекрёстных отсылок. Последние же как раз и указывают на неприменимость дедукции. В системе умозаключений не может быть взаимоотсылок – это был бы circulus in demonstrando – и следовательно, это была бы мнимая дедукция. Увидеть и описать – вот метод исследования. Главное знать куда смотреть. В данном случае вполне можно согласиться с мнением Г.Энском, одной из учениц Витгенштейна: «Эта книга завладела умами людей, оставаясь в то же время во многих местах исключительно тёмной... Трактат не строится как последовательный вывод из посылок; если мы хотим найти основание для его понимания, мы должны посмотреть в середину, а не в начало»[9].
Таким образом, если связь афоризмов, прослеживаемая в нумерации, лишь относительна, то вполне допустимы рекомбинации, порождающие, подобно машине Раймонда Луллия, новые грани понимания. Продолжая музыкальную аналогию Стениуса, можно сказать, что отказ рассматривать структуру Трактата, а, следовательно, и композиционное единство всей ранней философии Витгенштейна, как однозначно заданное, приводит к тому, что стремление к ‘одноголосице’, удовлетворяющей всех, заменяется сознательным ‘многоголосием’, порождающим всё новые и новые интерпретации, зависящие не только от вчитывания в оригинальный текст, но и от новейших разработок в области формальной логики. Каждый исследователь создаёт собственную аранжировку.
Укажем ещё один важный момент. В целом, ранние вещи Витгенштейна никогда не отличались особенной ясностью, да и Логико-философский трактат отнюдь не популярное изложение, а судя по введению претендует на понимание лишь одного человека, видимо Б.Рассела. И хотя работа исследователей сделала более понятными отдельные афоризмы, особенно по части технических деталей, редко кто не согласится с классификацией, использованной Э.Стениусом при разработке своей собственной интерпретации: “Во-первых, есть предложения, которые, как я думаю, понял и которые считаю ясными, стимулирующими и важными. Их я конечно же нахожу лучшей частью книги. Вторыми идут предложения, которые, как я думаю, понял, и с некоторой долей уверенности считаю ложными или содержащими заблуждение. Таким образом, я расцениваю их следующими по значимости за предложениями первой группы. В-третьих, есть такие предложения, которые я не понимаю и, следовательно, ценность которых я не могу оценить. И, в-четвёртых, есть ряд таких предложений, которые, с одной стороны кажутся понятными, но, с другой стороны, им дано неопределённое и тёмное выражение, следовательно, их невозможно принять или отвергнуть”[10].
Последнее замечание в совокупности с предыдущими позволяет понять не только то, почему имеет место множественность интерпретаций отдельных положений, высказанных Витгенштейном, но и то, что существуют различные понимания всей его ранней философии, часто противоречащие друг другу в трактовке цели, метода и места философа в историко-философской традиции. Исследователи творчества раннего Витгенштейна очень быстро перешли от истолкования отдельных афоризмов Трактата, к оценке содержания в целом, что во многом было обусловлено стремлением вписать его в рамки тенденций развития западной философии.
Позиция, прорисованная в ранних работах, характеризуется исключительным вниманием к языку. И если воспользоваться выражением самого Витгенштейна, его главная цель – «провести границу мышлению, или скорее не мышлению, а выражению мысли» [предисловие]. Однако такая постановка вопроса допускает две существенно различных интерпретации, на которые мы будем ссылаться как на критическую и на метафизическую. Критическая установка реализуется в исследовании условий возможности языкового опыта, тогда как метафизическая связана с объяснением сущности языка, отталкивающимся от структуры реальности. Интересно то, что у Витгенштейна присутствуют обе тенденции, однако не просто установить какая из них превалирует. Явная компоновка Трактата, который начинается с метафизических спекуляций по поводу структуры реальности и которая отражаясь в языке образует совокупность осмысленных предложений, рассматриваемых как непосредственный образ фактов, казалось бы говорит в пользу второй интерпретации. Этому же служит и развиваемая в последних афоризмах теория метафизического молчания, которое позволяет выйти за рамки, предопредлённые языковой структурой, в область невыразимого, мистического опыта.
С другой стороны, целый ряд положений, выдвинутых Витгенштейном, и используемая им терминология говорит в пользу трактовки его цели как критической. Действительно, онтология развиваемая в Трактате в некотором смысле ‘перевёрнута’, поскольку во многом моделируется в соответствии со структурой пропозициональной логики, устанавливающей условия возможности применения языка к миру[11]. В этом ход мысли Витгенштейна вполне соответствует ‘коперниканскому перевороту’ Канта. Однако нигде в Трактате мы не найдём ничего такого, что хотя бы отдалённо напоминало трансцендентальную дедукцию Критики чистого разума. Более того, Витгенштейн принципиально исключает всякое упоминание о субъективности (как психологической, так и трансцендентальной) из языка описания. Не стоит перед ним и проблема синтетического a priori, так как любое всеобщее и необходимое знание всегда имеет аналитический характер, поскольку вне логики всё оказывается случайным. Если логика и моделирует реальность, то только последовательно вынося субъекта за рамки самих моделирующих отношений. Но является ли такой ход трансцендентальным?
Вполне определённо на этот вопрос отвечает Швайдер, когда говорит: «Философия Витгенштейна была кантианской от начала и до конца»[12]. Более умеренную оценку даёт известный исследователь аналитической философской традиции Д.Пэрс, который хотя и говорит, что для Витгенштейна «философия была критикой языка по объёму и цели очень похожей на кантовскую критику мышления»[13], тем не менее отчетливо осознаёт ряд метафизических мотивов в его раннем творчестве, связывая их прежде всего с некритическим усвоением того тезиса, что язык в некотором смысле является образом предзаданной реальности, заимствованного из докантианского источника.
Однако исключительный акцент на упомянутом тезисе заставляет других исследователей принять противоположную точку зрения. У.Бартли, например, считает, что «одна из главных идей Трактата не только не-кантианская, но по духу до-кантианская... Толковать раннего Витгенштейна в духе Канта было бы неверно. Чтобы не погрешить против истины надо признать, что в его труде есть следы кантианских тем, но они ни в коей мере не преобладают»[14]. Развитие этой стороны позволяет поставить под сомнение то, что позиция, выраженная Витгенштейном в Трактате, вообще имеет какой-либо трансцендентальный смысл, даже в отношении ‘перевёрнутого’ характера онтологии, зависимой от структур логики высказываний, поскольку «его философию логики инспирирует сущностно метафизический взгляд на природу символизма»[15].
Тем не менее наличие разнородных мотивов, ни в коей мере не свидетельствует об эклектичности. Философия раннего Витгенштейна полифонична, но не эклектична. Она несёт отпечаток традиции, но попытка однозначно вписать её в то, или иное философское направление всегда будет выглядит односторонней. Всё дело в том, что опыт Логико-философского трактата – это новый философский опыт. В нём вполне выразился тот способ постановки философских проблем, который в зачатке был уже у Г.Фреге. Этот новый опыт заключается в том, что любая философская проблема начинает рассматриваться как проблема употребления языка. Но если до Витгенштейна этот опыт не выходил за рамки частных примеров, рассматривающих отдельные языковые практики (скажем, практику логического вывода у Фреге, все следствия теории которого должны пониматься и интерпретироваться с точки зрения этой практики), то в Трактате этот опыт обобщается до выяснения условий возможности языковой практики как таковой.
Подобный подход полностью переориентирует задачу философии, которая более не рассматривается как теория, подобная науке, в том смысле, что она не является совокупностью предложений, высказывающих нечто о мире и являющихся истинными или ложными. Цель философии – указать границы осмысленности, границы выразимости смысла в языке, внутренней логики того, что говорится о мире. В этом отношении, позицию Витгенштейна нельзя охарактеризовать как строго критическую или метафизическую. Вернее, в ней синтезированы оба подхода.
Она трансцендентальна, поскольку ставит проблему выразимости. При решении этой проблемы в ней поразительным образом сочетаются две противоположные, но всё же действительно критические тенденции:
Во-первых, это попытка концептуализировать сферу теоретического, что по устремлениям в высшей степени близко позиции Канта и служит крайним выражением рационализма;
Во-вторых, это попытка деконцептуализировать практическую сферу (практическую в смысле Канта), что по духу отвечает философии Шопенгауэра, и в конце концов приводит к крайнему выражению мистицизма.
И то, и другое осуществимо с точки зрения Витгенштейна только в рамках критики языка, так как границу выражения смысла можно провести только в языке. Но последнее требует понимания сущности языка, характера его связи с действительностью. И, вероятно, это тоже можно было бы осуществить в рамках трансцендентального подхода, если бы стремление к окончательной деконцептуализации практического не потребовало бы полной элиминации субъективности из области выразимого. А это привело к тому, что субъект и всё соотнесённое с ним как раз и оказалось тем, что не может быть выражено. Последнее не позволяет даже поставить вопрос о соотнесении языка с его носителем, а следовательно, и вопрос о трансцендентальном характере самой языковой деятельности. Язык, как он представлен в Трактате, рассматривается только с точки зрения ‘внеличностного изображения мира’. Последнее как раз и отвечает за метафизическую компоненту в философии раннего Витгенштейна.
С точки зрения такого ‘внеличностного изображения мира’ кажется вполне оправданным то исключительное внимание, которое уделяется формальной логике. Витгенштейн движется в русле философского антипсихологизма в обосновании логики, что впрочем характеризует не только его позицию, но и позицию наиболее интересных мыслителей начала века, например, Г.Фреге и Э.Гуссерля. Однако его установка весьма своеобразна и не имеет аналогов в традиции. Никто до него не только не пытался обосновать аналитические науки из собственного источника, т.е. не объясняя их особым интересом познания или структурой онтологии, но подобный ход мысли не рассматривался даже в качестве проблемы.
Такой подход диктуется пониманием философии как деятельности по прояснению мысли. Поскольку методом такой деятельности является логика, она не может быть вписана в доктринальные рамки онтологии и теории познания. Наоборот, понимание последних есть следствие, затребованное спецификой логического анализа. В этом как раз и заключается представление об автономии логики. Сформулировав в Дневниках 1914-1916 основной принцип философии логики: «Логика должна заботиться о себе сама»[16] и последовательно эксплицировав его в Логико-философском трактате, Витгенштейн заложил совершенно новые принципы исследования своеобразия аналитического знания. Он выводит формальную логику из под начала онтологии и теории познания, считая, что при прояснении её основных понятий необходимо отталкиваться исключительно от особенностей символического языка. Логика как исследование универсальных возможностей осмысленных утверждений не может быть фундирована никакой онтологией, как раз наоборот, поскольку именно логика устанавливает критерий осмысленности, любая онтология есть следствие логического прояснения возможных взаимосвязей структур описания. Как универсальный метод прояснения мыслей логика не может зависеть и ни от какой эпистемологии, поскольку теория познания рассматривается лишь как частная философская дисциплина.
С точки зрения Витгенштейна не существует никаких особых логических предметов, а тем более законов, описывающих особенности их функционирования, дело логики заключается в создании системы удовлетворительной знаковой записи, которая была бы свободна от эквивокаций естественного языка. Последнее достигается, в частности, за счёт того, что логическая запись освобождается от психологических условий протекания процессов мышления, поскольку «в логике не мы выражаем то, что хотим с помощью знаков, а высказывает себя природа естественно-необходимых знаков” [6.124]. Ориентация на выразительные средства, однако, не означает, что логика никак не связана с миром. Природа знаков предполагает их необходимое отношение к обозначаемому. Условия построения системы описания мира, освобожденного от всякого конкретного содержания, указывают на ту специфическую особенность логического, которая позволяет моделировать систему необходимых взаимосвязей дискурса, охватывающего всякую возможную реальность. В языке единственно выражает себя способность познания действительности, и в этой способности мы обладаем тем видом априорного знания, которое, задавая формальные структуры логики, создаёт необходимые условия систематического единства истины. Познавая сущность описания, мы познаём сущность описываемого, а тем самым, сущность мира. В этом отношении логика выступает как условие мира, она трансцендентальна. «Логика наполняет мир; границы мира суть и её границы» [5.61].
Задавая необходимые условия описания, логика определяет онтологическую структуру мира, поскольку в её компетенции решать, что может иметь место в мире, а что – нет. Именно в этом смысле она выступает основанием метафизики. Связь логического и онтологического, отношение отображения, задаёт логическая форма, которая едина у описания и описываемого. «То, что каждый образ, какой бы структуры он не был, должен иметь общим с действительностью, дабы он вообще мог – правильно или ложно – отображать её, есть логическая форма, т.е. форма действительности» [2.18]. Логика показывает логическую форму систематическим прояснением необходимых связей знаков, создавая совершенную грамматику и синтаксис. Грамматика задаёт систему элементарных неопределяемых знаков, характер отношения к реальности которых определён их вхождением в образ, функционально связанный с миром. Элементы и структурные отношения образа определяют элементы и структурные отношения действительности. «То, что элементы образа определённым образом соотносятся друг с другом, представляет, что так соотносятся друг с другом вещи» [2.15]. Грамматика элементарных выражений определяет действительность, прослеживая её до совокупности независимых первоэлементов. Она, так сказать, определяет мир изнутри, разлагая её на констеляции независимых атомов, и выступает минимальным пределом логического анализа. Особенность грамматической структуры однозначно определяет тип и способы функционирования знака и, тем самым, соответствующего ему предмета.
Логика ставит и максимальный предел анализа, позволяющий взглянуть на мир в целом. Взгляд на действительность извне определяет совокупность систематическим образом выстроенных логических предложений. Несмотря на то, что тавтологии не говорят ничего, они показывают свойства универсума в целом, задавая все возможные упорядоченные связи знаков, которые проявляются в единстве условий истинности описания мира. «Язык, способный выразить всё, отражает определённые свойства мира в тех свойствах которые он должен иметь; и так называемые логические предложения показывают эти свойства систематическим образом»[17].
Философский анализ языка в пределах минимума и максимума простирается от элементарных предложений, являющихся минимальным образом действительности, до вполне обобщённых, которые на первый взгляд такую связь полностью утрачивают. Класс осмысленных языковых выражений в этом диапазоне чрезвычайно широк и образует различные типы дискурса (предложения математики, естественно-научные предложения, предложения с пропозициональными установками и т.д.). Задачу логики как метода концептуализации теоретической сферы, отличающего осмысленное от бессмысленного, Витгенштейн связывает с редукцией всех предложений к элементарным предложениям, которые посредством отношения отображения имеют непосредственную связь с действительностью. Функционально-истинностное исчисление, разработанное Фреге и Расселом, как раз и служит этой цели. Так логика демонстрирует логическую форму отображаемого, в качестве предела ориентируясь на две крайние точки показанного: первое – весь мир в целом (система тавтологий); второе - простые предметы и их констеляции (полностью проанализированные предложения).
Однако здесь важно учитывать, что используя функционально-истинностное исчисление для прояснение отношений в рамках формальной системы знаков, Витгенштейн не ориентирован на построение идеального языка, который мог бы заменить несовершенный, обыденный язык. Каждый язык совершенен постольку, поскольку выполняет свою цель. Логика лишь показывает как работает любой язык, в том числе и язык повседневного общения, когда задаёт критерии его осмысленного использования, моделируя соответствующую ему онтологию с помощью проецирования системы знаковых отношений на действительность.
Разработка критерия осмысленности языковых выражений приводит ещё к одному важному результату. Логический анализ как метод концептуализации сферы теоретического есть крайнее выражение рационализма. С другой стороны, Витгенштейн рассматривает логику и как метод деконцептуализации сферы практического, что служит крайним выражением его мистицизма. Освобождаясь от эпистемологических предпосылок в стремлении обосновать автономию логики, он преодолевает любую её психологизацию тем, что субъект элиминируется из языка описания, из сферы аналитического, он там себя не обнаруживает. «Субъект не принадлежит миру, но есть граница мира» [5.632]. Соотношение субъекта и мира подобно соотношению глаза и поля зрения. И как из анализа поля зрения нельзя заключить, что оно видится глазом, так и анализируя мир нельзя обнаружить субъекта. «То, что мир есть мой мир, показывается тем, что границы языка (языка, понятного только мне) означают границы моего мира” [5.62]. Но сама граница невыразима в языке, она лишь показывается целостной системой осмысленных выражений, которую определяет логический анализ. Субъект не обнаруживает себя в теоретической сфере, так как логический анализ элиминирует его, редуцируя пропозициональные установки (контексты знания, мнения, веры и т.п.) к элементарным предложениям [5.542]. Он может обнаружить себя лишь в ценностях, но последние как раз и не выразимы в языке, поскольку не обладают логической формой, которую могут охватить его осмысленные выражения. Ценности не соответствуют структуре факта, а значит выходят за рамки описания мира, из сферы логического, за рамки того, что может быть концептуализировано, поскольку смысл всего этического и эстетического в соотнесённости с субъектом. То, что образует область этического не может быть артикулировано в языке, а может лишь мистически переживаться. Этика, подобно логике, трансцендентальна, с той лишь разницей, что она устанавливает границу мира извне, sub specie aeterni. Но именно поэтому, позитивная этика, как система знания выраженная в языке, невозможна. Однако невыразимое можно показать, устанавливая границы выразимому. В этом отношении логика выступает в качестве отрицательной этики, методически показывая то, что может быть сказано, она отграничивает сферу мистического молчания, ориентируя на практическое осуществление этических императивов. Для Витгенштейна логика и этика не просто одно, логика это единственно возможная и, к тому же, осуществлённая этика.
Представленная далее экспозиция взглядов Витгенштейна будет развиваться на основе сформулированных выше принципов. Отталкиваясь от проблемного поля, послужившего базисом для разработки оригинальных взглядов, мы затем перейдем к рассмотрению их генезиса, который можно проследить в Заметках. Наконец, на основе представления об автономии логики будет представлена последовательная интерпретация Трактата. Целью не ставится исчерпывающее изложение всех технических деталей, касающихся логики. Задача скорее в том, чтобы показать, как заложенная в основание конструкции предпосылка приводит к изменению в понимании проблем и результатов логического анализа. Мы редко затрагиваем биографические детали, привлекая лишь те, которые в той или иной мере способствуют решению основной задачи[18]. Точно также мы опускаем большинство тем, касающихся культурного контекста, оказавшего значительное влияние на общие интенции творчества Витгенштейна. Культурный контекст характеризует филиацию идей и степень оригинальности, но внутренняя логика самой конструкции в значительной степени остаётся независимой, а именно она нас в большей степени и интересует[19].
1. ИСТОЧНИКИ: Г.ФРЕГЕ И Б.РАССЕЛ
Содержание идей Л.Витгенштейна не исчерпывается философией логики. Скорее последняя представляет собой оригинальный путь решения мировоззренческих проблем, которые обычно рассматриваются как выходящие за рамки её компетенции. В этом его философия логики является совершенно оригинальной концепцией, но её нельзя отделить от того контекста, в рамках которого она создавалась. Автор ЛФТ достаточно небрежно относится к источникам и параллелям многих своих идей, имеющих отношение к онтологии, теории познания и этике, чего нельзя сказать об источниках идей, касающихся собственно логики. Отдавая им дань, в предисловии к ЛФТ он пишет: «Хочу только упомянуть выдающиеся работы Фреге и моего друга Бертрана Рассела, которые в значительной степени стимулировали мои мысли».
Влияние последних на Витгенштейна осуществляется в двух направлениях: позитивном и негативном. Позитивный момент относится к заимствованию им основных принципов формально-логического анализа, затрагивающих языковую структуру и связанный с этим анализом способ представления форм мысли, основанный на разработке совершенно нового языка логики. Негативный момент связан с принципиальным неприятием тех философских допущений, которые лежали в основании их концепций. Если первый момент явно выражен в ЛФТ и по части технических деталей расширен и дополнен собственными изысканиями Витгенштейна, то второй завуалирован сложной формой изложения, и для неподготовленного читателя эти места ранних работ вызывают наибольшее затруднение[20]. Формальная логика, как техническая дисциплина, была усвоена Витгенштейном именно в той форме, которую ей придали Фреге и Рассел, а не в той, которую предлагал производный от Аристотеля традиционный подход (даже модифицированный в виде алгебры Булем и Шрёдером). Однако новации Витгенштейна относятся не к изменениям в технических приёмах; даже если последние и можно найти в его работах, то они затрагивают лишь те моменты, которые позволили бы уточнить его особый взгляд на философию логики.
Различие между логикой как технической дисциплиной и философией логики можно выразить следующим образом. Если первая ориентирована на создание формальных исчислений, в той или иной мере отражающих порядок мыслительных процедур (примером техники может служить уже силлогистика Аристотеля), то вторую можно определить как совокупность ответов на вопросы о том, с чем имеет дело и что именно делает логик, когда описывает эти процедуры. Именно второй момент в большей степени интересует Витгенштейна, и поскольку его точка зрения содержит большой критический заряд относительно идей Фреге и Рассела, вне знакомства с их взглядами его ранние работы остаются в значительной степени совершенно непонятными. И хотя автор ЛФТ заявляет, что он «не хочет судить о том, в какой мере его усилия совпадают с усилиями других философов» [предисловие], любая интерпретация его взглядов совершенно необходимо должна отталкиваться от рассмотрения идей, послуживших ему источником. Представленная ниже экспозиция точек зрения Г.Фреге и Б.Рассела не претендует на полноту, а затрагивает лишь те концепции, знание которых необходимо для понимания общей направленности философии логики их ученика. Эти общие контуры в некоторой степени будут уточняться по мере изложения взглядов самого Витгенштейна.
1.1. Г.Фреге: Создание новой логики и программа логицизма
Аналитическая философия возникла на волне интереса к формальной логике, которая, обогатившись новыми методами, с середины XIX века начинает бурно развиваться[21]. К этому необходимо добавить, что влияние логики не ограничивалось лишь аналитической философией; во второй половине XIX века представители всех философских направлений от позитивистов до неогегельянцев писали “логические исследования”, на этой же волне возникла и феноменология Гуссерля. Исключительное внимание к логике на рубеже веков трудно обосновать лишь ссылкой на то, что логика является философской наукой. Скорее, объяснение этому надо искать в её взаимодействии с теми отраслями знания, которые выходили за рамки философского. И здесь особую роль сыграли психология и математика. Появление психологии стимулировало развитие логической мысли в том отношении, что с привнесением в философию позитивного естественнонаучного духа возникала иллюзия, что теория познания обретёт наконец так недостающие ей прочные основания, и в этом отношении психологическое объяснение логики, как ядра теории познания, должно было сыграть свою ведущую роль. Цель психологизации, по существу, сводилась к стремлению объяснить логические структуры естественными процессами, протекающими в индивидуальном человеческом сознании, а не способностями трансцендентального субъекта или самоопределением объективного духа. Однако психологизация не приводила к позитивному расширению границ логики как науки, с точки зрения содержания она всё так же понималась, по словам Канта, “вполне законченной и завершенной”. И, несмотря на то, что рефлексия над основаниями логики не раз приводила к радикальному изменению философских установок, в данном случае был дан фальстарт. Психологическое обоснование не принесло ощутимой пользы, прочный фундамент так и не был заложен, а позитивное расширение границ логического ограничилось разработкой субъективных условий применения тех объективных законов и норм, которые и так давно были известны.
Иное дело воздействие математики на логику. XIX век возродил идею Лейбница о Mathesis Universalis, как единстве characteristica universalis (искусственного языка науки) и calculus rationator (исчисления умозаключений), что не только позволило расширить границы формальной логики, но и совершить подлинную революцию как в понимании природы логического, так и в понимании перспектив применения философских методов. Последнее обстоятельство позволило Б.Расселу сказать, что формальная логика с середины XIX века каждые десять лет создаёт больше, чем было создано за весь период от Аристотеля до Лейбница[22]. Математизация логики – процесс прямо противоположный её психологизации и, пожалуй, характеризует одну из наиболее интересных коллизий в развитии науки.
В ряду известных философов и логиков конца XIX начала XX века Г.Фреге занимает особое место. Его роль в современной логике, которую он в значительной степени создал, сравнима разве что с ролью Аристотеля в логике традиционной. Фреге, в частности, заложил основы той области знания, которая получила название оснований математики, впервые отчетливо связав проблему формального единства содержания математики с принятыми в ней способами рассуждения и заложив тем самым, основы теории формальных систем. Это стало возможным только потому, что им была осуществлена одна из первых аксиоматизаций логики высказываний и логики предикатов, причём последняя фактически впервые появилась в его трудах. Г.Фреге заложил основы логической семантики, отделив в логической теории средства выражения (синтаксис) от того, что они обозначают. Наконец, он выдвинул программу прояснения основных понятий математики, которую и попытался осуществить с помощью процедуры сведения математики к логике, реализуя одну из возможных методик прояснения специфики математического знания.
Совокупность результатов, достигнутых им в логике, предполагала совершенно определённый концептуальный сдвиг, который отражает влияние Фреге на развитие современной мысли в целом. На чём же основан этот концептуальный сдвиг? Он основан на новом понимании роли языка, который начинает рассматриваться как исчисление, аналогичное математическим теориям[23].
1.1.1. Искусственный язык логики
Язык как вычислительная процедура представлен Г.Фреге в первой крупной работе Шрифт понятий, где он разрабатывает формальный язык, позволяющий явным образом представить систематическую связь теоретических истин. Своеобразие данной программы заключается в том, что она никогда не была ориентирована на прояснение сущности языка в том смысле, что она не отталкивается от общей предпосылки: язык функционирует, описывая реальность или в каком-либо отношении указывая на неё. Рассматривая мысль как содержание предложения, Г.Фреге никогда не ставил перед собой задачи выяснения того, каким образом мысль относится к действительности. Главная проблема, стоящая перед ним, — это проблема логического вывода, следовательно, все импликации его теории оправданны только в перспективе объяснения последнего. Использование языка не ограничивается высказыванием истин, обычный дискурс включает вопросы, императивы и другого типа нереференциальные выражения, которые невозможно редуцировать к индикативной функции, но цель Фреге ограничивается лишь таким анализом, который ориентирован на язык осуществления вывода. Он не говорит о том, что есть язык, но говорит о том, что, если в языке должны осуществляться выводы, а нечто должно признаваться истинным, то использование языка должно отвечать определённой структуре. Эта структура должна быть чётко зафиксирована с помощью определённых выразительных средств, имеющих формальный характер.
Мотивируя необходимость искусственного языка, Фреге пишет: «Постижение научной истины обычно происходит путём прохождения многих степеней достоверности. Общее предложение, вначале отгаданное, быть может на недостаточном числе отдельных случаев, постепенно становится более достоверным благодаря тому, что посредством цепи умозаключений устанавливается его связь с другими истинами; это может выражаться в выводе из него следствий, подтверждающихся другим способом, или же наоборот, в признании его в качестве следствия уже обоснованных предложений. Поэтому можно поставить вопрос, во-первых, о том, каким путём приходим мы постепенно к какому-нибудь предложению, и, во-вторых, каким способом оно должно быть наиболее просто обосновано. На первый вопрос разные люди, пожалуй, должны ответить по-разному, второй же вопрос более определён, и ответ на него связан с сутью рассматриваемого предложения. Самым прочным, очевидно, является чисто логическое доказательство, которое, отвлекаясь от специфических особенностей вещей, основывается только на тех законах, на которых базируется всё сознание»[24]. Важную роль такое доказательство играет в точных науках, особенно в математике, которая сама использует искусственный язык для выражения своих истин. Однако язык математики ограничивается выражением её собственного содержания, употребляя, там, где нужно установить теоретическую связь истин, средства обыденного языка. Последние не свободны от двусмысленностей и часто приводят к неверному пониманию результатов математического доказательства. Например, в обыденном языке смешаны выражения, обозначающие индивидуальные мыслительные процессы, с помощью которых сознание отдельного человека приходит к выводу о связи разрозненных результатов, и объективные отношения, характеризующие систематическую связь истин. Эквивокации естественного языка отражаются и на философии, поскольку лежат в основании попыток психологического обоснования логики и математики. Создавая искусственный язык логического следования, Г.Фреге ставит задачу последовательной экспликации объективного хода математического доказательства, что диктуется целью «продвинуться в арифметике только умозаключениями, которые базируются на законах мышления, стоящих выше всяких частностей»[25]. Реализация данной цели является первой составляющей логицистской теории.
Поставленная задача сама по себе не есть совершенно новое изобретение, она ставилась много раз, но только Фреге впервые связывает её с анализом ‘сущности’ выразительных средств. Исследование совокупности теоретических истин ставится в зависимость от исследования языка. Отвлечение от конкретного содержания мышления естественным образом связано с отвлечением от конкретного содержания выражений, с проникновением в их чистую форму. Этому как раз и служит разработанный немецким логиком шрифт понятий, «скопированный с арифметического чистый язык формульного мышления». Этот язык, являясь вспомогательным средством, позволяет скрупулёзно проанализировать структуру естественного языка, устраняя имплицитные эквивокации последнего. Дело в том, что язык повседневного общения вовсе не приспособлен для выражения научных истин и тем более их теоретической связи, поскольку даже то, что может быть связано, не всегда в явном виде обнаруживает в нём эту связь. Шрифт понятий соотносится с обыденным языком подобно тому, как микроскоп относится к глазу. Каждый имеет собственную область применения и дополняет друг друга, но там, где нужна точность, искусственный язык демонстрирует свои преимущества, вскрывая закономерности, которые естественный язык прояснить не способен. В этом главное достоинство шрифта понятий, демонстрирующее его непосредственное значение и для философии. «Если в задачу философии входит низвержение власти слов над человеческим духом посредством выявления ошибок, часто почти неизбежно возникающих при употреблении языка для отношений между понятиями, посредством освобождения мысли от заблуждений, коренящихся в свойствах языковых средств выражения, то усовершенствованный для этих целей мой шрифт понятий может оказаться пригодным инструментом для философов. Разумеется, он воспроизводит мысли не чисто, ибо при внешних средствах представления иначе не может быть, но, с одной стороны, эти отклонения можно ограничить только неизбежным и безвредным, а с другой стороны, уже тем, что они совершенно иного рода, чем свойственные языку отклонения, обеспечивается страховка от одностороннего влияния какого-нибудь из этих средств выражения»[26].
Надо сказать, что и до Фреге логика использовала формальный язык для представления некоторых фрагментов вывода. Типичным, да и, пожалуй, единственным примером здесь является силлогистика. Язык, описывающий структуру простого атрибутивного суждения, в некоторой степени может служить аналогом тому, что хочет сделать Фреге. Однако его задача и по существу, и по объёму значительно превосходит то, что было сделано в традиционной логике. Дело даже не в том, что силлогистика не охватывает множества умозаключений, известных из практики рассуждения, например выводы из сложных суждений, для которых традиционная логика так и не построила никакой целостной теории, но ограничилась лишь перечислением основных из них. Аппарат традиционной логики совершенно не приспособлен для выражения большинства утверждений математики, ориентированной на анализ отношений. Кроме того, даже представленная в формальном виде, традиционная силлогистика не является строго дедуктивной теорией. Вид, который придали ей учебники логики, скорее характеризует её как дескриптивную теорию, описывающую некоторую сложившуюся практику рассуждений с фиксированными правилами, следование которым позволяет из истинных посылок получать истинные заключения. Как зачаток дедуктивной формы силлогистики можно рассматривать процедуру сведения одних модусов к другим, но и здесь принципы сведения не всегда имеют чёткую формулировку и далеки от того идеала совершенства, который видится Г.Фреге. Однако силлогистика демонстрирует принципиальную возможность построения такой теории, которая отражает структуры вывода, а не содержание того, к чему он применяется.
Экспозиция логического вывода с помощью формального языка позволяет решить важную проблему чёткого разведения в рамках теории двух существенно разнородных частей: первой — связанной с совокупностью теоретических истин, относящихся к собственному содержанию данной теории, и второй — универсальной для всякого знания, если оно претендует хотя бы на видимость теоретического единства, истины этой части суть истины, относящиеся исключительно к компетенции логики. По мысли Фреге, первая часть, выходящая за рамки логики и имеющая конкретный содержательный характер, должна служить своего рода совокупностью утверждений теории, тогда как вторая часть есть механизм получения следствий. Причём этот механизм должен быть настолько эффективным, чтобы позволить получать из базиса всё содержание исследуемой науки.
Поскольку механизм дедукции независим от содержания любой теории, постольку он может быть исследован независимо от неё и сам представлен в виде теории, что и демонстрирует Фреге. Строя искусственный язык, немецкий логик осуществляет первую аксиоматизацию логики, строго отделяя то, что принято называть законами, которые он рассматривает как основу своего шрифта понятий, от того, что позволяет из совокупности исходных законов получить производные положения, то есть то, что принято называть логическим выводом. Таким образом, искусственный язык является не просто средством описания, но представляет собой строгую дедуктивную систему, построенную по образцу вычислительных процедур математических теорий. Результативность такого подхода трудно переоценить. Помимо того, что многие результаты логики, полученные независимо друг от друга, наконец приобретают должное систематическое единство, многие истины, которые, казалось бы, можно получить только на основании наблюдения или предметного исследования, черпают своё основание из другого источника. «Можно увидеть, как чистое мышление, отвлечённое от всякого такого содержания, к которому приходим через чувства или даже через созерцание a priori, может порождать только из содержания, вытекающего из его же особенностей, суждения, которые на первый взгляд кажутся возможными лишь на основании какого-нибудь созерцания»[27].
Конструируя формальный язык логики как разновидность исчисления, Фреге приводит общие соображения о его строении, отталкиваясь от тех средств, которые предоставляет формульный язык математического вычисления. Последний состоит из двух категорий знаков. Одни из них представляют переменные количества или неопределённые функции, а другие – константы, имеющие собственное, однозначно фиксированное значение. Так, в выражение (a+b)´c=(a´c)+(b´c) знаки a и b относятся к первой группе, а знаки + и ´ — ко второй. В общей теории величин формализация (отвлечение от содержания) затрагивает количество, делая безразличным его конкретное выражение. Однако эта процедура сохраняет фиксированное значение констант, что позволяет исследовать их свойства, характеризующие общий смысл операций вычисления. Теория величин стремится представить эти свойства в систематическом виде, фиксируя их, например, в виде правил арифметики. Сходная процедура применима и в логике, которая, отвлекаясь от конкретного содержания мысли, сохраняет фиксированные способы её соединения. Это известно уже силлогистике, которая, представляя структуру простых атрибутивных суждений в виде SaP, SeP, SiP, SoP, рассматривает S и P как знаки переменных содержаний, а a, e, i, o — как знаки константных способов связи. Фреге распространяет данный подход на конструируемый им шрифт понятий, отличая логические константы, выраженные такими словами, как ‘все’, ‘некоторые’, ‘не’, ‘если, то’ и т.п., от содержания, к которому они могут относиться. Например, выражение “Если сахар поместить в воду, то он растворится” состоит из содержания, которое может мыслиться переменным, и способа связи ‘если, то’, который остаётся тем же самым, даже если содержание заменить, скажем, так: “Если металлический стержень нагреть, то он увеличится в размерах”. Данный пример показывает, что можно рассмотреть форму связи в отвлечении от содержания, представив её в виде ‘Если p, то q’, где ‘p’ и ‘q’ суть знаки переменных содержаний. Но при этом необходимо учитывать, что выражение ‘если, то’, как оно используется в обыденном языке, может существенно отличаться от логического смысла условной связи. Для того чтобы избежать смешения различных смыслов таких выражений, в формульном языке за константами необходимо закрепить особые знаки, которые указывали бы только на тот смысл, который необходим при экспликации структуры логического вывода. Точно так же в математике знакам + и ´ придан совершенно определённый смысл, независимый от того, что в обыденном языке понимается под словами ‘прибавить’ и ‘умножить’. Как и в математике, уровень формального анализа в логике позволяет систематически прояснить свойства и отношения констант, установив их в виде законов. Дедуктивная форма представления должна привести эти законы в систематическую связь, представленную в виде вычислительной процедуры, имеющей строгий алгоритм.
Логический анализ всеобщих связей мыслимого содержания, долженствующий привести к созданию универсального языка дедукции, закрепляется у Фреге в отчётливо сформулированных методологических принципах: «Строго отделять психологическое от логического, субъективное от объективного; о значении слова нужно спрашивать не в его обособленности, а в контексте предложения; не терять из виду различие между понятием и предметом»[28].
1.1.2. Функция и предмет
Представление языка в виде формальной структуры, аналогичной математической, заставляет по-новому взглянуть на грамматическую структуру выражений. Одно из самых главных достижений Фреге заключается в том, что он предложил формальный анализ предложений, существенно отличающийся от традиционной классификации суждений. Этот новый анализ базировался на аналогии между понятиями и функциями. Фреге не отрицает достижения традиционного анализа, основанного на аристотелевском способе членения логической структуры предложения. В последнем случае, как известно, в структуре суждения выделяются два термина, несущих содержательную нагрузку (субъект и предикат), и различные способы связи этих терминов. Выделение терминов суждения основано на принципе логического ударения, когда субъект определяется как то, о чём говорится в суждении, а предикат – как то, что говорится в суждении. Однако такая трактовка приемлема только в том случае, если суждение понимается как форма связи понятий, где субъект с предикатом и рассматриваются в качестве таковых. Причём определение позиции субъекта и предиката во многом зависит не от логической формы суждения, а производно от грамматической формы его языкового выражения. С точки зрения Фреге, ссылаться при таком членении суждения на грамматическую форму ошибочно, поскольку с точки зрения логики главным в высказывании являются не языковые средства выражения, а заключённый в них смысл, который может быть выражен различными способами, сохраняя при этом свою тождественность. В этом случае ориентация на логическое ударение в рамках традиционного деления суждения становится бессмысленной. Фреге приводит следующий пример. Высказывания “При Платее греки победили персов” и “При Платее персы были побеждены греками” обладают одинаковым понятийным содержанием, которое только и имеет значение для логики. Однако при традиционном членении суждения мы должны были бы признать различие в их логической структуре, поскольку в первом случае субъектом были бы ‘греки’, а во втором – ‘персы’. Кроме того, подход традиционной логики не оправдывает себя в тех случаях, когда необходим более точный анализ, связанный со спецификой термина, а не способа связи. Так, например, в традиционной логике суждения с общими и единичными субъектами относятся к одной разновидности, тогда как во многих случаях именно это различие играет существенную роль.
Фреге отказывается от принципа логического ударения, но тогда нужен какой-то новый принцип выделения элементов структуры предложения. Традиционная логика всегда начинала свой анализ с понятий, рассматривая их как исходный логический элемент. Фреге же предлагает собственное понимание логической структуры. Определяющим при этом становится не форма связи понятий, а условия истинности высказываний. С этой точки зрения элементы логической структуры высказывания должны определяться только в зависимости от той роли, которую они играют при установлении его истинностного значения. Отталкиваясь от этого принципа, Фреге заменяет субъект и предикат на функцию и аргумент. Функция понимается как то, что сопоставляет аргументам, входящим в высказывание, некоторое значение истинности. Так, например, в высказывании “Водород легче углекислого газа” выражение ‘быть легче углекислого газа’ может рассматриваться как функция, сопоставляющая аргументу ‘водород’ значение истина. Если же в качестве аргументов взять другие названия газов, эта же функция может придавать им значение ложь. В качестве замены слова ‘водород’ могут мыслиться ‘кислород’, ‘азот’ и т.д. Таким образом, любое высказывание распадается на две части: одна из них не изменяется, а другая мыслится заменяемой. Первая является функцией, а вторая – аргументом; первая содержит переменную, а вторая является значением переменной. Для наглядности приведённое выражение можно привести к виду: ‘Легче углекислого газа (x)’, где х – переменная, на место которой могут быть подставлены ‘водород’, ‘азот’, ‘кислород’ и т.д.
Позиция функции определяется наличием в ней некоторого ненасышенного места, которое нужно заполнить для того, чтобы получить целостное высказывание, имеющее истинностное значение. Ненасыщенность есть специфическое свойство функциональных выражений и функций в противоположность насыщенным выражениям, именам, которым соответствуют предметы. «Аргумент не принадлежит функции, но, сочленяясь с функцией, создаёт полное целое; ибо сама по себе функция должна быть названа неполной, нуждающейся в дополнении, или ‘ненасыщенной’»[29]. С точки зрения Фреге, любое предложение, представляющее собой языковое выражение простого суждения, должно распадаться на функциональную и аргументную части. Аргументная часть имеет собственное значение в виде предмета, который может мыслиться как заполняющий ненасышенное место. Функциональная часть собственного значения не имеет, его смысл определяется только в контексте целостного предложения как функция, областью определения которой являются предметы, а областью значения – два выделенных значения: истина и ложь. С этой точки зрения, понятия, по Фреге, суть предметно-истинностные функции, сопоставляющие под них подпадающим предметам истинностное значение. Так, например, высказывание “Сократ – человек” не является формой связи понятий ‘Сократ’ и ‘человек’. Данное выражение распадается на аргументное выражение ‘Сократ’, являющееся именем предмета, и функциональное выражение ‘человек (х)’, соответствующее понятию, с которым предмет находится в отношении субсумции, подпадения. Формализация простого суждения о наличии у предмета свойства приводит к выражению, которое в искусственном языке логики будет выглядеть следующим образом: ‘fa’, где ‘а’ – константное имя, а ‘f…’ или ‘fx’ – выражение функции[30]. Такой подход позволяет не только анализировать суждения о свойствах, но и даёт новый формальный аппарат для выражения отношений, которыми традиционная логика фактически пренебрегала. В приведённом выше примере “Водород легче углекислого газа” заменяемыми могут мыслиться два выражения – ‘водород’ и ‘углекислый газ’. Соответственно остаётся вдвойне ненасышенная часть ‘... легче ...’, которая может рассматриваться как выражение двухместной функции ‘легче (х,у)’, также являющейся предметно-истинностной. В принципе любое n-местное отношение можно выразить с помощью n-местной функции. Например, высказывание “Пётр познакомил Марию с Иваном” можно рассматривать как состоящее из выражения трёхместной функции ‘познакомил (х,у,z)’ и трёх имён ‘Пётр’, ‘Мария’, ‘Иван’. Выражения с многоместными функциями формально представимы следующим образом: R(a,b), Q(a,b,c) и т.п.
Эти рассуждения приводят Фреге к следующему определению: «Если в выражении, содержание которого не обязательно допускает утверждение, на одном или в нескольких местах встречается простой или составной знак и он мыслится нами заменяемым другим на всех или нескольких местах, но всюду одним и тем же, то часть выражения, остающуюся при этом неизменной мы называем функцией, а заменяемую ею часть – аргументом»[31]. Внимательное прочтение данного определения показывает, что различие функции и аргумента задаётся исключительно наличием в выражении ‘ненасышенного’ места, а стало быть, функция и аргумент не должны рассматриваться как выражения различных порядков, они находятся на одном уровне. Единственное требование, накладываемое Фреге, заключается в том, что если одна часть мыслится заменяемой, то другая таковой мыслиться не должна. Так, например, предложение “Водород легче углекислого газа” можно расчленить по-другому, рассмотрев в качестве переменного само функциональное выражение ‘быть легче углекислого газа’, на место которого могут быть подставлены выражения ‘быть легче кислорода’, ‘быть тяжелее азота’ и т.п. Здесь работает принцип контекстности, который требует рассматривать логическую позицию того или иного выражения только в контексте целостного высказывания. Согласно этому принципу на вычленение функции и аргумента не накладывается никаких ограничений, даже связанных с тем, что они всегда должны занимать одну и ту же логическую позицию. Функция в любое время может рассматриваться как аргумент, а аргумент – как функция. Фреге, в частности, говорит: «Заменяемым можно считать знак и на таких местах, на которых он ранее рассматривался незаменяемым, хотя на других местах уже мыслился заменяемым»[32].
Согласно функциональному подходу отношение субсумции необходимо строго отличать от отношения подчинения между понятиями, чем зачастую пренебрегала традиционная логика. С точки зрения последней высказывания “Сократ – человек” и “Человек – смертен” имеют одинаковую логическую форму, в которой приписывается свойство. Фреге же считает эти выражения различными на том основании, что во втором высказывании присутствуют два в равной степени ненасышенных выражения ‘человек (х)’ и ‘смертен (х)’. Каждое из этих выражений при заполнении ненасышенной части может образовать высказывание, а стало быть, в отличие от “Сократ – человек” высказывание “Человек – смертен” является сложным, состоящим из двух простых. Речь в нём идёт о том, что если нечто удовлетворяет функцию ‘человек (х)’, то оно удовлетворяет и функцию ‘смертен (х)’. Этот и ему подобные примеры выражают условную связь, так же как и высказывание “Если сахар поместить в воду, то он растворится”, но в скрытой форме. Поэтому полный анализ логических связей, помимо простых высказываний, должен охватывать и логические союзы, выражающие отношения между ними.
При экспликации логических союзов Фреге также отталкивается от принципа, связывающего анализ логической структуры с истинностным значением высказывания. Рассматривая условную связь нужно заметить, что истинность выражения ‘Если p, то q’ зависит от истинности составляющих его ‘p’ и ‘q’. Например, можно сказать, что при истинности и условия и следствия всё выражение будет истинным, а при истинности условия и ложности следствия всё выражение будет ложным. Фреге предлагает такую интерпретацию условной связи, которая в современной логике получила название материальной импликации. Подобного рода соединение не предполагает связи по содержанию, а следовательно, не эксплицирует тех особенностей, которые отличают, например, причинную связь. Но Фреге и не претендует на то, чтобы условная связь, выраженная логическим союзом, говорила более чем о совместимости истинностных значений. Он вводит условную связь с помощью комбинации утверждения и отрицания, где последние понимаются как переход от содержания предложения к его истинностному значению: «Если p и q обозначают содержания, допускающие утверждение, то имеются следующие четыре возможности: 1) утверждается p и утверждается q; 2) утверждается p и отрицается q; 3) отрицается p и утверждается q; 4) отрицается p и отрицается q. Теперь ú¾ qÉp означает суждение, что имеет место не третья из указанных возможностей, а одна из трёх остальных»[33]. Другими словами, выражение ‘qÉp’ является истинным в том, и только том случае, если q – ложно или p – истинно. Аналогичным образом через комбинацию истинностных значений можно ввести и другие логические союзы. Например, соединительный союз (логическое умножение) подразумевает, что выражение ‘p×q’ будет истинным в том и только в том случае, если истинно и p и q, а разделительный союз (логическое сложение) подразумевает, что выражение ‘pÚq’ будет ложным в том и только том случае, если и p и q являются ложными. Таким образом, Фреге интерпретирует логические союзы как выражение функций, но функций несколько иного рода. Логические союзы являются ненасышенными выражениями (например, ‘Если ..., то ...’, ‘... и ...’, ‘... или ...’ или в формальном выражении ‘... É ...’, ‘... × ...’, ‘... Ú ...’) и требуют дополнения в виде высказываний, имеющих истинностное значение. Стало быть, соответствующие им функции являются истинностно-истинностными, поскольку и областью их определения, и областью их значения являются истина и ложь[34].
При общем подходе простейшая истинностно-истинностная функция соответствует уже простому высказыванию, взятому как единое целое: «Эта функция имеет своим значением сам аргумент, когда последний является истинностным значением»[35]. Такой подход позволяет совершенно иначе, чем в традиционной логике, интерпретировать отрицание. В случае простого атрибутивного суждения отрицание трактуется как внутреннее отношение между субъектом и предикатом. Так, например, в высказывании “Сократ не является христианином” традиционная логика объединяет частицу ‘не’ со связкой, рассматривая её как отрицание некоторого свойства у Сократа. Но с точки зрения Фреге, отрицание затрагивает не форму связи понятий, а выражение целостного содержания, представленного в данном предложении, которое должно прочитываться как “Неверно, что Сократ – христианин”. Все спекуляции о различии между внутренним и внешним, т.е. относяшимся к содержанию целостного предложения, вхождении отрицания Фреге считает надуманными и не относящимися к делу. Для интерпретации собственно логического содержания мысли вполне достаточно второго. А в этом случае отрицание можно, подобно другим логическим союзам, рассматривать как истинностно-истинностную функцию, которая одному значению истинности сопоставляет другое. Так, например, значению ложь выражения “Сократ – христианин” отрицание сопоставляет значение истина. Отличие отрицания от других логических союзов, типа условной связи, заключается только в том, что оно относится к одному аргументу, а соответствующая ему функция является одноместной. В этом смысле выражение ‘неверно, что ...’ (или формально ‘~...’) является ненасышенным и требует дополнения для получения полного выражения[36].
Истинностно-истинностные функции не обязательно соотносятся с одним или двумя высказываниями. Сложное выражение может объединять несколько логических союзов и относящихся к ним содержаний, которые могут мыслиться переменными. Высказывание “Если Сократ - язычник, то он не является христианином” содержит два логических союза с соответствующими переменными содержаниями. Форма данного выражения представима в виде ‘Если p, то не-q’ (или ‘pÉ~q’). Возможны любые комбинации логических союзов, представляющих форму соотношения сложных мыслей. В этой связи интересно то, что комбинации одних союзов можно рассматривать как равносильные комбинациям других логических союзов. Поскольку здесь играет роль только соотношение значений истинности, то различные функции, сопоставляющие одинаковым аргументам одинаковые значения, можно отождествить. Например, ‘pÉq’ заменима на ‘~pÚq’, поскольку и то и другое выражения истинны только в том случае, когда ‘p’ – ложно, или ‘q’ – истинно. Таким образом, логические союзы взаимовыразимы и для описания в искусственном языке полной системы логических функций достаточно обойтись лишь некоторыми из них[37]. Так, в Шрифте понятий для выражения полной системы логических связей Фреге ограничивается условной связью (‘É’) и отрицанием (‘~’).
Константные выражения, рассматриваемые в логике, не исчерпываются логическими союзами. Не меньшее значение имеют выражения общности. Такие слова, как ‘все’ или ‘некоторые’, уже традиционной логикой рассматривались как подпадающие под её компетенцию. Однако старый анализ относил эти выражения к способам связи субъекта и предиката, различая их в зависимости от того, приписывается ли свойство, выраженное предикатом, всему объёму субъекта или же некоторой его части, и соотнося их с отношением подчинения между понятиями. Структура выражения “Все люди смертны” рассматривалась как ‘Все S суть Р’ (‘SaP’), а структура предложения “Некоторые люди – греки” как “Некоторые S суть Р” (‘SiP’). Фреге предлагает иную точку зрения. Как уже указывалось выше, высказывания типа “Все люди смертны” не могут рассматриваться как предицирование свойства, поскольку содержат два функциональных выражения, находящихся в отношении условной связи. Выраженная в них всеобщность должна рассматриваться с позиций отношения субсумции между понятием и предметом и интерпретироваться как способ координации подпадения одного и того же предмета под различные понятия.
Выражения общности (кванторы), ‘все’ и ‘некоторые’, интерпретируются Фреге как функции второго порядка. Они являются ненасышенными выражениями и сами по себе не имеют никакого значения. Их смысл раскрывается в применении к предметно-истинностным функциям, которые рассматриваются как функции первого порядка. Возьмём, например, функцию ‘легче углекислого газа (х)’. Можно сказать, что эта функция выполнима, то есть сопоставляет значение истина некоторым, но не всем аргументам. Поэтому выражение ‘все’ (квантор всеобщности) будет сопоставлять этой первопорядковой функции значение ложь, а выражение ‘некоторый’ (квантор существования) будет сопоставлять ей значение истина. Таким образом, с точки зрения Фреге, выражение всеобщности (‘все’) должно рассматриваться как обозначение функции, значением которой является истина, если её аргументом, в свою очередь, является функция, значением которой является истина для каждого аргумента, в противном случае значением второпорядковой функции будет ложь. В простейшем случае (в случае одноместных функций или понятий) если аргументом общности является понятие, под которое подпадает каждый предмет, то всё выражение истинно, если же нет, то ложно. Так, выражение ‘Для всех х (легче углекислого газа (х))’ будет ложным. Аналогично и для квантора существования (‘некоторый’). Последний будет сопоставлять значение истина первопорядковой функции, если она истинна хотя бы для одного аргумента. В этом случае выражение ‘Некоторый х (легче углекислого газа (х))’ будет истинным. В формальном языке структура данных выражений записывается ‘(х)fх’ и ‘($х)fx’ соответственно.
Согласно пониманию выражений общности совершенно иначе интерпретируются простые атрибутивные суждения традиционной логики. С точки зрения Фреге, структура предложения “Все люди смертны” должна пониматься как ‘Для всех х, если человек (х), то смертен (х)’, а предложения “Некоторые люди – греки” как ‘Существует х, человек (х) и грек (х)’. При записи на формульном языке получаем ‘(х)(fxÉgx)’ и ‘($x)(fx×gx)’ соответственно. Так выражения общности комбинируются с логическими союзами, порождая многообразие связей, неизвестных традиционной логике.
1.1.3. Теория смысла
Анализируя логические структуры, Фреге ориентируется на выделении в языке специфических функциональных выражений, которые являются ненасышенными и требуют дополнения для образования целостного предложения. Однако дело здесь не только в языковой структуре. Внешние формы выражения являются лишь материальной оболочкой некоторого содержания, и в этом смысле они могут оказаться вполне случайными. Функциональному выражению должно соответствовать нечто в содержании. Ненасышенность в области знаков относится не к знакам самим по себе, а к способам их употребления, заданным отношением к обозначаемому. Поэтому необходимо чётко различать знак и обозначаемый им внеязыковой объект, функциональное выражение и соответствующую ему функцию. Особенности первого суть лишь отражение особенностей последней: «Особенность функциональных знаков, которую мы здесь назвали ‘ненасыщенностью’, естественно имеет нечто соответствующее в самих функциях. Они также могут быть названы ‘ненасыщенными’»[38].
Проблема соотношения знака и внеязыкового объекта интересует Фреге не только в связи с функциональными выражениями. В языке наряду с последними мы находим знаки аргументов, или имена, и предложения, выражающие целостное содержание, оцениваемое как истинное и ложное. Естественно должен возникнуть вопрос, какова структура отношения этих знаков к тому, что они обозначают. Этот вопрос имеет ещё больший смысл, если учесть, что функциональное выражение приобретает значение только в контексте целостного предложения при дополнении её знаком аргумента.
Фреге начинает анализ отношения наименования со знаков аргументов, которые он называет собственными именами и под которыми понимает любое выражение, имеющее значение в виде самостоятельного предмета. В качестве отправной точки он избирает отношение тождества двух имён. Обычная трактовка связывает это отношение либо с отношением вещей, либо с отношением знаков. Однако Фреге отвергает и то и другое. Если бы тождество сводилось к совпадению предмета с самим собой, то установление подобного отношения не имело бы познавательного значения, так как соответствующее суждение было бы аналитическим в смысле Канта и не содержало бы никакого приращения знания. Тождественность предмета самому себе есть отправной пункт всякого познания, а не его результат. Когда же мы говорим, что ‘a=b’, мы утверждаем нечто явно отличное от ‘a=a’ ввиду различной эвристической ценности этих выражений. Скорее можно было бы предположить, что отношение тождества – это отношение между различными обозначениями одного и того же. Однако если всё сводилось бы лишь к отношению между знаками, то роль играл бы только используемый способ обозначения, что также не имело бы эвристической ценности ввиду произвольности принятой системы знаков. Как считает Фреге, «разница может появиться только тогда, когда различию знаков соответствует различие в способах данности обозначаемого. Пусть a, b, c – прямые, соединяющие вершины треугольника с серединами противоположных сторон. Точка пересечения a и b есть в таком случае та же самая точка, что и точка пересечения b и c. Таким образом, у нас имеются различные обозначения одной и той же точки, и эти имена (‘точка пересечения a и b’, ‘точка пересечения b и c’) одновременно указывают на способ данности объекта, и поэтому данное предложение содержит действительное знание. Это свидетельствует о том, что некоторый знак (слово, словосочетание или графический символ) мыслится не только в связи с обозначаемым, которое можно было бы назвать значением знака, но также и в связи с тем, что мне хотелось бы назвать смыслом знака, содержащим способ данности обозначаемого. Тогда в нашем примере одним и тем же будет значение выражений ‘точка пересечения a и b’ и ‘точка пересечения b и c’, а не их смысл. Точно так же у выражений ‘Вечерняя звезда’ и ‘Утренняя звезда’ одно и то же значение, но не смысл»[39].
Таким образом, если мы намереваемся правильно решить проблему тождества, необходимо допустить ещё один компонент, характеризующий отношение наименования, то есть отношение между предметом и знаком. Таким компонентом является выраженный в языке способ указания на предмет, который не есть собственно языковая оболочка и не есть предмет объективной реальности, а отличается и от того, и от другого. Этому третьему элементу отношения наименования, смыслу, Фреге отводит эвристическую функцию приращения знания.
Введение в структуру отношения наименования такого компонента, как смысл, позволяет решить проблему осмысленного функционирования пустых, т.е. не имеющих предметного значения, имён, типа ‘Одиссей’ или ‘самое большое число’. Когда встречаются такие выражения, речь, очевидно, не может идти об их предметном значении, но они могут употребляться осмысленно. В этом отношении наличие смысла независимо от наличия соответствующего объекта[40].
Под именами Фреге понимает любой знак, обозначающий самостоятельный предмет, а не только то, что обычно рассматривается как собственные имена, и в этом его терминология отличается от общепринятой. Отличается от общепринятой и его трактовка собственных имён, относительно которых обычно предполагается, что они не имеют смысла, а служат просто для указания на предмет. Фреге же распространяет своё различение смысла и значения в том числе и на них, он не отказывает собственным именам в наличии смысла: «Мнения о том, что же следует считать смыслом собственно имени собственного, например ‘Аристотель’, могут быть, правда, различны. Можно, в частности, считать, что слово ‘Аристотель’ имеет смысл: ученик Платона и учитель Александра Великого. Тот, кто придерживается такого мнения, свяжет с предложением “Аристотель родился в Стагире” не тот смысл, который оно имеет для того, кто с именем ‘Аристотель’ связывает смысл: родившейся в Стагире учитель Александра Великого. Но поскольку значение остаётся одним и тем же, постольку эти колебания смысла допустимы, хотя в языках точных наук их следует избегать, а в совершенном языке они недопустимы»[41]. В данном случае может возникнуть проблема с субъективизацией наполнения смыслом одной и той же языковой оболочки. Однако с точки зрения идей, высказанных Фреге ранее, эта проблема может быть разрешена на основании вводимого им принципа контекстности: «Необходимо всегда учитывать полное предложение. Только в нём слова обладают подлинным значением. Достаточно, если предложение имеет смысл как целое; благодаря этому своё содержание получают также и его части»[42]. Правда, позднее появляется иной принцип: «Имена, простые или же такие, составные части которых сами включают имена истинностных значений, вносят вклад в выражение мысли, и этот вклад, который вносит отдельное, есть его смысл. Если имя является частью имени истинностного значения, тогда смысл первого имени есть часть мысли выраженной последним именем»[43].
Однако изменение акцентов с точностью до наоборот (поскольку теперь уже не целое определяет смысл частей, а части смысл целого) не меняет существа дела. Сохраняется основная предпосылка, которую можно было бы назвать холистическим постулатом. Выраженные выше требования не отменяют друг друга, но представляют собой две стороны одного и того же более общего принципа: с одной стороны, смысл частей может быть усвоен, только если понято целое; с другой стороны, целое может быть понято только с точки зрения того, каким образом части участвуют в формировании его смысла. Или, другими словами, смысл части задан структурным прообразом, который выражен соотношением элементов целого, а смысл целого есть функция смыслов, составляющих его частей. Утверждая, что каждому выражению присущ эксплицитный смысл, Фреге никогда не говорит, что он может быть однозначно усвоен вне контекста предложения. Примеры же, касающиеся употребления собственных имён, скорее демонстрируют обратное. Таким образом, можно было бы сказать, что с точки зрения этого принципа смысл собственного имени зависит не столько от мнения, сколько от контекста целостного предложения, в котором оно встречается. Итак, «собственное имя (слово, знак, сочетание знаков, выражение) выражает свой смысл и означает, или обозначает, своё значение. Мы выражаем некоторым знаком его смысл и обозначаем им его значение»[44].
Требование рассматривать смысл и значение функциональных выражений и имён в контексте всего предложения заставляет поставить вопрос о смысле и значении последнего. Всякое повествовательное предложение, считает Фреге, содержит мысль, которая понимается как то, что может быть достоянием тех, кто понимает предложение. Является ли эта мысль как раз тем предметным значением, о котором говорит предложение? Если бы это было так, тогда замена одного из компонентов предложения на другое с тем же самым значением, но другим смыслом не оказывала бы влияние на предметное значение всего предложения. Однако если в предложении ‘Утренняя звезда – это планета, освещаемая Солнцем’ мы заменим имя ‘Утренняя звезда’ на имя ‘Вечерняя звезда’, мысль, выраженная в предложении, очевидно, изменится. С точки зрения изложенного выше принципа контекстности, который говорит, что смысл целого есть функция смыслов его частей, выраженную в предложении мысль скорее следует считать смыслом предложения. Но что же тогда представляет собой его предметное значение? Ответить на этот вопрос, полагает Фреге, поможет рассмотрение ситуации, в которой нас интересует предметное значение. Дело в том, что предложения могут осмысленно функционировать и в том случае, если мы ограничиваемся лишь их смыслом. Например, предложение “Одиссея высадили на берег в состоянии глубокого сна” является вполне осмысленным, но вряд ли нам придёт в голову приписывать этому предложению истинностное значение, поскольку тогда пришлось бы вполне серьёзно утверждать, что и имя ‘Одиссей’ имеет значение.
Вопрос о значении составляющих предложение имён возникает только тогда, когда ставится вопрос об истинности или ложности предложения. Поэтому, руководствуясь всё тем же принципом контекстности, который значение целого ставит в зависимость от значения составляющих, необходимо признать, что значением предложения является его истинностное значение. «Под истинностным значением предложения, – говорит Фреге, – я понимаю то обстоятельство, что оно является истинным или ложным. Других истинностных значений нет. Для краткости одно я называю истинностью, другое ложностью. Всякое повествовательное предложение, в зависимости от значений составляющих его слов, может, таким образом, рассматриваться как имя, значением которого, если, конечно, оно имеется, будет либо истина, либо ложь. Оба этих абстрактных предмета признаются, хотя бы молчаливо, всеми, кто вообще выносит какие-либо суждения или считает хотя бы что-нибудь истинным»[45]. Фреге развивает номинативную теорию предложений, где истина и ложь рассматриваются как особые предметы, именами которых являются предложения. В этом смысле класс имён расширяется, что вполне оправданно, поскольку логические союзы понимаются как выражение особого рода функций, аргументами которых являются предложения. В данном случае Фреге продолжает последовательное различение между понятием (функцией) и предметом. Именами такого, пусть и абстрактного, предмета, как истина, являются все истинные предложения, а именами такого предмета, как ложь, – все ложные предложения. Таким образом, все предложения, не содержащие пустых имён, разбиваются на две группы, каждая из которых соответствует одному из двух значений. Различаются же предложения выраженной в них мыслью, которая по-разному указывает на значение, выполняя функцию смысла, как определено выше. В этой связи ‘смысл’ – более широкий термин, в отношении которого мысль занимает субординированное положение; мысль – это разновидность смысла. Фреге говорит: «Смысл имени истинностного значения я называю мыслью»[46].
Итак, в знаковой системе выделяются три категории знаков: собственные имена, имена функций и имена истинностных значений. Каждое из них связано с предметным значением посредством смысла. Принцип контекстности определяет, что предметное значение и смысл имени истинностного значения (предложения) есть производная значений и смысла собственных имён и имён функций.
1.1.4. Суждение
Заметим ещё раз, что мысль и истинностное значение – два совершенно разных элемента в отношении наименования; второе не является частью первого (так же, как, например, само Солнце не является частью мысли о Солнце). Поскольку истина и ложь – не смысл, но предметы, стало быть, характеристика предложения как истинного или ложного ничего не добавляет к содержащейся в нём мысли. Это отчётливо видно, когда мы сравниваем предложения “5 – простое число” и “Мысль, что 5 – простое число, истинна”. Второе предложение не содержит никакой информации сверх той, что может быть усвоена из первого, а значит, приписывание мысли истинностного значения – это отношение иного рода, чем отношение между функцией и аргументом, из которых состоит мысль. Функция и аргумент находятся на одном уровне, дополняя друг друга, они создают целостную мысль, которая может функционировать, даже если мы ничего не знаем о её истинности. Вопрос об истине возникает только тогда, когда мы переходим к утверждению мысли.
С точки зрения Фреге, в структуре утвердительного предложения необходимо различать: 1) схватывание мысли – мышление; 2) признание истинности мысли – суждение; 3) демонстрация этого суждения – утверждение[47]. Первый этап соответствует усвоению содержания предложения. Признание истинности заключено в форме утвердительного предложения и соответствует переходу от содержания предложения к его истинностному значению. Необходимость разведения мысли и суждения обосновывается тем, что усвоение содержания предложения не связано однозначно с возможным признанием его истинным или ложным, тот же самый смысл может быть усвоен в форме вопроса. Более того, очень часто случается так, что между усвоением мысли и утверждением её истинности лежит значительный промежуток времени, как, например, происходит в научных исследованиях. Признание истинности выражается в форме утвердительного предложения. При этом совсем не обязательно использовать слово ‘истинный’. Даже в том случае, если это слово всё же употребляется, собственно утверждающая сила принадлежит не ему, а форме утвердительного предложения.
В естественном языке различие между содержанием предложения и его утверждением скрыто самой формой выражения. В структуре повествовательного предложения нет ничего такого, что позволило бы отличить простую констатацию мысли от признания её истинной. В естественном языке это противопоставление скрыто, в частности, тем обстоятельством, что отсутствует особый знак суждения, подобный ‘?’ и ‘!’. Однако выделение особой утвердительной силы, основанное на противопоставлении запроса и суждения, необходимо, как считает Фреге, ввести в формальный язык описания логических структур, в котором все различия должны быть явно артикулированы. Для этого он использует особый знак суждения ‘÷¾’. Различая суждение и саму мысль, он пишет: «В простом равенстве ещё нет утверждения; “2+3=5” только обозначает истинностное значение, не говоря о том, какое из двух. Кроме того, если я написал “(2+3=5)=(2=2)” и предполагается, что мы знаем, что 2=2 есть истина, я тем самым всё ещё не утверждал, что сумма 2 и 3 равна 5; скорее я только обозначил истинностное значение “2+3=5” означает то же самое, что и “2=2”. Нам, следовательно, требуется другой, особый знак, для того чтобы мы могли утверждать нечто как истинное. Для этой цели я предпосылаю знак ‘÷¾’ имени истинностного значения, так что, например, в “÷¾ 22=4” утверждается, что 2 в квадрате равно 4. Я отличаю суждение от мысли следующим образом: под суждением я понимаю признание истинности мысли»[48].
Своеобразие формальной системы, созданной Фреге, состоит в том, что на её языке можно выразить как предложения, высказанные с утвердительной силой, так и простую констатацию. В последнем случае немецкий логик использует знак ‘¾’, который помещает перед предложением. Этот знак является составной частью знака суждения ‘÷¾’, и только вертикальная черта превращает констатацию в признание истинным. Различие констатации и суждения позволяет избавиться от традиционной классификации суждений на положительные и отрицательные. С точки зрения Фреге, нет никакой специфической отрицательной силы, для формальной системы достаточен только знак утверждения. Отрицание не затрагивает акт суждения и интегрировано в формальную запись на уровне констатации, поскольку, как указывалось выше, отрицание представляет собой одноместную истинностно-истинностную функцию. Знак суждения служит для утверждения, что истинностным значением предложения является истина, но «нам не нужен специальный знак, для того чтобы объявить, что истинностным значением является ложь, поскольку мы обладаем знаком, посредством которого истинностное значение изменяется на противоположное; это также необходимо и по другим основаниям. Теперь я ставлю условием: значением функции ‘¾ ~p’ будет ложь для каждого аргумента, для которого значением функции ‘¾ p’ будет истина; и будет истина для всех других аргументов. Соответственно, в ‘¾ ~p’ мы имеем функцию, значением которой всегда является истинностное значение; это – понятие, под которое подпадет каждый объект, единственно за исключением истины... При принятых нами условиях ‘¾ ~(22=5)’ есть истина; а потому: ‘¾ ~(22=5)’, используя слова: ‘22=5 не есть истина’; или: ‘2 в квадрате не равно 5’»[49]. Таким образом, отрицание относится не к форме выражения, как это имеет место в традиционной логике, которая различает утвердительные и отрицательные суждения, а к элементам, связанным с содержанием. Мысль, выраженная в предложении, в этом смысле нейтральна, как вообще нейтрален способ данности объектов, каковыми в данном случае выступают истина и ложь.
Инкорпорируя знак суждения в структуру выражения мысли, Фреге не рассматривает его как конструкцию, аналогичную перформативным выражениям типа ‘Я утверждаю...’, ‘Он утверждает...’ и т.п. Знак суждения, выражающий утвердительную силу, никогда не может быть включён в содержание предложения, поскольку, согласно Фреге, приписанное перформативу предложение имеет косвенное вхождение в выражение, и как таковое имеет смысл и значение, отличные от смысла и значения исходного предложения. Так, значением косвенного предложения, подчинённого перформативу, является не истина или ложь, а его обычный смысл. Поэтому немецкий логик говорит именно о форме утвердительного предложения, которая соответствует знаку ‘÷¾’ в естественном языке. Поскольку признание истинным зависит исключительно от формы утвердительного предложения, постольку оно также не имеет никакого отношения к чувству субъективной уверенности, сопровождающему психологическое осуществление акта суждения. Признание истинным – объективный процесс, характеризующий форму выражения мысли.
Знак суждения по Фреге может рассматриваться как общий всем предложениям предикат, типа “Истинно, что p” или “Имеет место p”. Так как предложения рассматриваются как имена, последнее вполне оправданно, поскольку с точки зрения грамматики конструкция “÷¾ p” представляет собой глагол, приписанный имени.
Введение знака суждения основано не только на соображениях, связанных с формой выражения мысли. Важную роль знак суждения играет в структуре вывода. В качестве элементов вывода, как считает немецкий логик, могут использоваться только такие предложения, которые высказаны с утвердительной силой (т.е. соответствующая им мысль должна быть признана истинной), поскольку вывод заключается в вынесении суждений, осуществляемом на основе уже вынесенных ранее суждений, согласно логическим законам. Каждая из посылок есть определённая мысль, признанная истинной; точно так же признаётся истинной определенная мысль в суждении, которое является заключением вывода. Последнее можно прояснить специальным случаем c правилом вывода modus ponens, которое Фреге в своём шрифте понятий рассматривает в качестве единственного способа получения следствий и которое иллюстрирует ещё один аргумент в пользу введения в структуру вывода особой утвердительной силы, связанной с формой повествовательного предложения в естественном языке и знаком ‘÷¾’ в символическом языке. С точки зрения последнего, выделение особой формы суждения позволяет предотвратить petitio principi, скрытое в форме условно-категорического умозаключения. В “Если p, то q; p. Следовательно, q” заключение уже присутствует в условной посылке. Однако если в это умозаключение явно ввести знак ‘÷¾’, то petitio principi можно избежать. В “÷¾ Если p, то q; ÷¾ p. Следовательно,÷¾ q” заключение в условной посылке не содержится, поскольку “÷¾ q” не совпадает с “q”.
1.1.5. Антипсихологизм
Нетрудно заметить, что понимание логической структуры мысли и формальный язык, предложенный Фреге, предоставляют значительно больше возможностей, чем традиционный подход. Однако необходимо поставить вопрос, структуры чего пытается эксплицировать логика, описывая их с помощью искусственного языка? Что представляет собой смысл, заключённый в языковых выражениях? Возможность отвлечения от содержания сама по себе ещё ничего не говорит о его специфике. Имеет ли оно характер индивидуального представления в сознании отдельного человека? Зависят ли специфические особенности содержания от внешних форм выражения, к которым можно отнести естественные языки, и сопутствующих обстоятельств, связанных с психологической окраской акта суждения? Отражают ли в этом случае логические структуры формы протекания индивидуальных психологических процессов, не являются ли законы логики предписаниями, касающимися осуществления конкретной душевной жизни? Господствующий во второй половине XIX века психологизм в обосновании логики и математики в основном отвечал на эти вопросы утвердительно. Однако для Фреге характерно последовательно проводимое различение логического (объективного) и психологического (субъективного).
Последнее проявляется уже при определении структуры мыслимого содержания. Его членение на функцию и предмет совершенно не зависит от возможных различий языковых оболочек, в которых она может быть выражена. Основанием выделения здесь выступает самотождественность, скрытая за изменчивой формой предложения. Например, глагол из активного залога можно перевести в пассивный, но общее содержание предложения от этого не меняется. «Ту часть содержаний, которая является одной и той же в обоих предложениях, – говорит Фреге, – я называю понятийным содержанием. Поскольку только такое содержание имеет значение для шрифта понятий, я не различаю предложения с одним и тем же понятийным содержанием»[50]. Грамматические преобразования залогов не меняют мысли, а стало быть, определение субъекта как такого понятия, о котором идёт речь в суждении, с точки зрения логики бессмысленно, так как то же самое можно отнести и к предикату. Если и имеет смысл говорить о субъекте, то только с языковой точки зрения. «Место субъекта в последовательности слов в языке имеет значение отмеченного места, куда ставится то, на что желательно обратить внимание слушателя. Это может, например, иметь целью указать отношение этого суждения к другим, чтобы облегчить слушателю понимание всего контекста»[51]. К сущности же логического должно относиться только то, что не оставляет места для догадки. С психологизацией существа дела связано уже понимание суждения как приписывание субъекту предиката. Отношение элементов логической структуры не есть результат мыслительного процесса, их связь друг с другом установлена объективно, поскольку отражается на истинности целого, которая не имеет отношения к чувству субъективной уверенности, а представляет собой независимую оценку. Всё, что не влияет на такую оценку, относится лишь к намёкам, сопровождающим субъективный мыслительный акт, к которым можно отнести большую или меньшую степень уверенности, сомнения, расположения и прочие психологические модусы. К таким же несущественным деталям принадлежат стиль, интонация и пр. Для содержания теоремы Пифагора неважно, будет она выражена в поэтической форме или же прозой, будет её выражение сопровождаться уверенностью или же сомнением, соотношение гипотенузы и катетов от этого не изменится.
Ещё в меньшей степени содержание, оцениваемое как истинное или ложное, можно отнести к разряду субъективных представлений. Содержание индивидуальной психической жизни, формирующееся в результате чувственного восприятия, характеризуется относительностью и изменчивостью. Совершенно иные свойства мы находим у знаний, являющихся достоянием науки. Содержание научного закона не формируется в результате мыслительной деятельности отдельного человека. В противном случае оно менялось бы от одного носителя к другому.
Противопоставление смысла, как общего достояния, и представления, как части опыта одного человека, образует подоплёку всех философских рассуждений Фреге. Спецификация свойств представления позволяет ему провести демаркационную линию между психологией и логикой. В этой связи в структуре отношения знака к обозначаемому представление играет немаловажную роль. С содержательной точки зрения, образующей философскую ткань произведений немецкого логика, скорее следовало бы говорить не о семантическом треугольнике ‘знак-смысл-значение’, а о четырёхэлементной структуре, определяющей динамику оперирования со знаками. Представление, как четвёртый компонент, отвечает за включение в отношение наименования всего того, что не оказывает влияния на объективные аспекты референции, а зависит от индивидуальной психической жизни. Можно было бы также сказать, что в отличие от смысла и значения, определяющих необходимые черты выражений, представления суть всё то, что для выражения является случайным. «Значением собственного имени, – пишет Фреге, – является сам предмет, который мы обозначаем этим именем; представление, которое мы при этом имеем, полностью субъективно; между ними лежит смысл, который хотя и не столь субъективен, как представление, но всё-таки не является и самим предметом»[52].
Проясняя свою мысль, Фреге проводит аналогию с астрономическими наблюдениями. Если смотреть на Луну в телескоп, то фактически в наблюдении присутствуют три элемента. Сама Луна, объективный характер которой позволяет отождествить её со значением знака. Образ, который имеет место на линзах телескопа. Этот образ, хотя он односторонен и может изменяться согласно расположению телескопа, всё-таки доступен наблюдению многих и не является полностью субъективным. В этом его можно уподобить смыслу. Наконец, образ на сетчатке глаза наблюдателя, который индивидуален и изменчив, а стало быть, подобен представлению. Различная роль представления и смысла в определении значения знака позволяет установить степени отличия одного выражения от другого, где представления, практически никак не связанные с объективным значением слова, не должны играть никакой роли. В противном случае, «если бы каждый обозначал именем ‘Луна’ нечто отличное, а именно одно из своих представлений, почти так же, как возгласом ‘ой’ выражают свою боль, тогда психологический подход, конечно, был бы оправдан, но спор о свойствах Луны был бы беспредметным. Один с полным правом мог бы утверждать о своей Луне прямо противоположное тому, что говорит другой. Если бы мы не могли схватить ничего, кроме того, что есть в нас самих, тогда конфликт мнений, основанный на взаимопонимании, был бы невозможен, потому что было бы утрачено общее основание, а представления в психологическом смысле такого основания не могут нам предоставить. Не существовало бы логики, на которую можно было бы указать как на третейского судью в конфликте мнений»[53].
Знание, претендующее на истинность, не должно принадлежать сознанию отдельного человека. Сама истина формирует объективные аспекты референции, поскольку выступает в качестве предметного значения, не зависящего от конкретной психической жизни. Таковы все истины науки, значение которых оставалось бы неизменным, даже если бы не существовало ни одного человека. Объективность мысли сродни объективности вещей внешнего мира, которые не изменяются ни под воздействием нашего мышления, ни даже усилием воли. Дерево как внешний объект моих психических процессов не изменяется в результате того, что моё отношение к нему имеет определённую психологическую окраску, оно не изменяется в результате того, что я всегда воспринимаю лишь его часть. Так и мысль, будучи воспринята, не меняет своей истинности, но всегда пребывает самотождественной и неизменной. Отождествление мысли с представлением подобно отождествлению с представлением внешнего объекта. Моё восприятие дерева отличается от того, как воспринимает его другой; и если бы не было ничего, кроме восприятий, то, значит, и не было бы основания утверждать, что содержание моего сознания то же самое, что и содержание сознания другого. Точно так же утверждать, что мысль относится к содержанию моей психической жизни и что у другого она может быть другой в связи с особенностями его личного склада – значит утверждать, что нет никакой объективной истины.
«Следует признать, – считает Фреге, – третью область. То, что относится к этой области, соответствует представлениям в том отношении, что не может быть воспринято чувствами, а вещам – в том отношении, что не требует носителя, сознанию которого принадлежит. Так, например, мысль, которую мы выражаем в теореме Пифагора, является истинной безотносительно ко времени, истинной независимо от того, считает ли кто-нибудь её истинной. Она не нуждается в носителе. Она является истинной отнюдь не только с момента её открытия, но подобна планете, которая даже и не будучи ещё обнаруженной кем-либо, находится во взаимодействии с другими планетами»[54]. Постулируя существование третьей области, Фреге возрождает точку зрения платонизма. Его позицию можно охарактеризовать как логический и лингвистический реализм, выносящий идеальное содержание нашего сознания за пределы последнего и утверждающий существование своеобразного мира идей. Смыслы представляют собой не психологические, экзистенциально независимые от конкретной душевной жизни, объективные и внеэмпирические сущности, которые не являются собственностью мышления отдельного человека. Единственное отношение, связывающее их с познающим индивидом, Фреге обозначает как схватывание, но и оно не приводит к каким-либо изменениям в смыслах.
Схватывание – это процесс, позволяющий выйти за пределы субъективной жизни и прикоснуться к объективной истине. «Если мы вообще хотим выйти за пределы субъективного, мы должны понимать познание как деятельность, которая не создаёт познаваемое, но схватывает то, что уже существует. Образ схватывания хорошо подходит для освещения существа дела. Если я схватываю карандаш, то в моём теле происходит возбуждение нервов, изменение напряжения и давления мышц, связок и костей, изменение движения крови, но совокупность этих процессов не есть карандаш и не порождает его; карандаш существует независимо от них. Для схватывания существенно, чтобы существовало нечто такое, что схватывается; внутренние изменения сами по себе не являются схватыванием. Точно так же то, что мы схватываем, существует независимо от этой деятельности, независимо от представлений и их изменений, которые являются частями схватывания или сопровождают его; то, что мы схватываем, не совпадает с совокупностью этих процессов и не создаётся ими как часть нашей духовной жизни»[55]. Схватывание соответствует особой духовной способности, рассматриваемой Фреге на манер интеллектуального созерцания. В этом процессе мышление не создаёт мысли, но вступает в отношение с чем-то объективным. Мысль тесно связана с истиной, но то, что признаётся истинным, то, о чём выносится суждение, является истинным совершенно независимо от того, кто выносит суждение. Когда учёный говорит о факте как о твёрдом основании науки, он имеет в виду мысль, которая признаётся за истинную, и если бы последняя зависела от изменчивых состояний человеческого рассудка, то никакой речи об объективном знании идти не могло бы. Учёный не создаёт, но открывает истины, которые безотносительны ко времени. Мысль, выраженная в теореме Пифагора, вневременна, вечна; её содержание можно применить к такому состоянию мира, когда человека вообще не было и, значит, некому было признать её истинной. Так, например, поступает астроном, изучая возникновение Вселенной.
1.1.6. Законы логики
Логика также не является наукой о субъективных психических процессах, её предмет не сводится к анализу структуры содержания индивидуального сознания. Конечно, «выражение ‘законы мысли’ вызывает соблазн предположить, что эти законы управляют мышлением тем же самым способом, каким законы природы управляют событиями во внешнем мире. В этом случае они были бы не чем иным, как законами психологии: поскольку мышление есть душевный процесс. И если бы логика была связана с этими психологическими законами, она была бы частью психологии». Последнее же совершенно недопустимо, поскольку «если быть истинным независимо от быть признанным за истинное тем или другим человеком, тогда законы истины не являются психологическими законами»[56]. Логика изучает архитектонику объективной области смыслов, существующих до и независимо от человека. В этом отношении логика не сводима ни к психологии, ни к любой другой науке. Её искусственный язык описывает структурные взаимосвязи, столь же независимые, как и представленное в них содержание. Архитектоника искусственного языка логики есть образ архитектоники объективной области смыслов, которую искажает язык повседневного общения.
Область смыслов не является простой совокупностью разрозненных содержаний, а представляет собой систематическую связь истин. Дело логики состоит в прояснении этой систематической связи и представлении её в дедуктивной форме. Так называемые законы логики есть не что иное, как предписания, управляющие процедурой вывода одной мысли из другой. В этом отношении любой вывод можно выразить в форме предложения, содержащего такое предписание. «Истину, заключённую в каком-либо виде умозаключений, можно высказать одним суждением в следующей форме: если имеет место М и если имеет место N, то имеет место и L»[57]. Предложения логики представляют собой не что иное, как законы дедукции, оправдывающие возможность логического вывода. Проверка следования одной мысли из другой всегда должна сводиться к проверке того, удовлетворяет ли вывод предписанию, выраженному в некотором предложении логики.
Вывод не затрагивает содержание мысли, поэтому предложения логики имеют формальный характер. Но, рассматривая логические законы, Фреге приходит к выводу, что выражающим их предложениям нельзя отказать в наличии смысла уже хотя бы потому, что они допускают преобразование в вопрос, имеющий определённое содержание, истинность которого требует обоснования. Кроме того, это содержание может быть подвергнуто отрицанию, и несмотря на то, что подобное отрицание может казаться бессмысленным, последнее привходит только от связываемой в естественном выражении с этим отрицанием определённой утверждающей силы, которую, как и во всех аналогичных случаях, всё-таки надо отличать от содержания самого выражения. По этому поводу у Фреге говорится следующее: «Пусть ‘О’ - предложение, которое выражает частный пример логического закона, но которое не дано как истинное. Тогда ‘не О’ выглядит вполне бессмысленным, но только потому, что оно мыслится как высказанное утвердительно. Утверждение мысли, противоречащей логическому закону, действительно может выглядеть если и не бессмысленно, то, по крайней мере, абсурдно, поскольку истинность логического закона непосредственно очевидна сама по себе; т.е. на основании смысла собственного выражения. Однако мысль, которая противоречит логическому закону, может быть выражена, так как она может отрицаться. Но само ‘О’ часто кажется бессодержательным»[58]. Признание истинности логического предложения в определённом смысле не зависит от постижения содержащейся в нём мысли, значит, законы логики обладают определённым содержанием, которое может утверждаться. Необходимо только привести основание для такого суждения, которое, по мнению Фреге, есть не что иное, как переход от содержания к истинностному значению.
Все предложения логики можно привести в систематическую связь, представив в виде теории. Такой теорией и является шрифт понятий, цель которого не только разработать формальный язык, отражающий логическую структуру мысли, но и, как говорилось выше, эксплицировать механизм получения следствий. Свою логистическую теорию Фреге строит по образцу аксиоматических теорий, где одни логические предложения рассматриваются как аксиомы и не требуют доказательств ввиду очевидности содержащейся в них мысли; все другие предложения рассматриваются как следствия исходных. Достаточным основанием признания логического закона в этом случае выступает возможность выведения его из аксиом. Последние Фреге ограничивает фиксированным числом. Например, к ним относятся законы снятия и введения двойного отрицания: ‘~~pÉp’, ‘pÉ~~p’; закон самодистрибутивности условной связи: ‘(pÉ(qÉr))É((pÉq)É(pÉr))’; закон партикуляризации: ‘(х)fxÉfa’ и ряд других. Механизм получения следствий ограничивается правилом вывода modus ponens и правилом подстановки одних формул вместо сегментов других. Таким образом, всё содержание логики представляется в строго дедуктивном виде и образует должное единство.
1.1.7. Определение числа
К середине XIX века усилиями ряда мыслителей стал, наконец, проясняться характер связи математики и логики, единство которых было предугадано ещё Лейбницем. Осознание тесной связи пришло со стороны математиков. Первый шаг на этом пути был сделан трудами англичан А.Де Моргана и Дж.Булля. Предложив алгебраическую интерпретацию логических отношений, они создали предпосылки для создания математизированной логики, которая нашла своё окончательное выражение в трудах немецкого математика Э.Шрёдера. Рассматриваемая как раздел алгебры, логика предстала здесь как совокупность вычислительных процедур, распространённых с отношений между переменными величинами на отношения между переменными содержаниями. Однако несмотря на зримые достижения, такой подход таил одно парадоксальное следствие. С одной стороны, логика представлялась разделом математики; с другой стороны, понимаемая как наука об универсальных законах мышления, логика должна была оправдать в том числе и математические рассуждения. Выход из затруднительной ситуации был найден Г.Фреге, который взамен математизированной логики предложил логизированную математику.
Несмотря на новизну предложенного решения, суть новаций не выходила за рамки внутренних интенций развития современной математики. Создание неколичественной алгебры, теории трансфинитных чисел и т.д. всё более зримо указывало на отсутствие связи между математическими положениями и эмпирическим исследованием. Наличие независимых друг от друга, но в равной степени обоснованных теорий типа неэвклидовых геометрий требовало нового обоснования специфики математического рассуждения. Таким образом, математика всё более утрачивала эмпирическую основу, что приводило к двум важным следствиям. Во-первых, математические символы всё более и более теряли конкретную связь с пространственными и количественными отношениями, приобретая формальный характер, более свойственный логике, которая, отвлекаясь от содержания мысли, оперирует чистыми формами, репрезентирующими последовательность рассуждений. Математика становится наукой о порядке. Во-вторых, математическое знание более не рассматривается как совокупность истин об особом роде предметов, как считалось со времён Платона, а понимается как выведение следствий. Математики отказываются от понимания истины как определённой адеквации между продуцируемым ими знанием и действительностью. Критерием истины становится непротиворечивость следствий, полученных из исходных постулатов. Стало быть, и в этом отношении логика, как анализ непротиворечивости рассуждения, приобретает исключительное значение. Оба следствия, по существу, содержат требование логического прояснения лежащих в основании математики понятий. Исследование должно выявить их структурные особенности, обеспечивающие возможность сугубо формального подхода, и гарантировать непротиворечивость формулируемых с их помощью постулатов.
В этом русле как раз и развиваются идеи Фреге, который ставит перед собой проблему выяснения того, как далеко можно продвинуться в арифметике только с помошью умозаключений. Свою задачу он видит в том, чтобы свести основное понятие арифметики ‘упорядочивание в ряд’ к логической последовательности и на этом пути объяснить понятие числа. Отсюда возникает своеобразная программа создания логизированной математики, получившая название логицизма. В общем виде эта программа результируется в двух принципах: во-первых, все понятия арифметики должны быть определены с помощью понятий логики и, следовательно, все утверждения арифметики должны быть преобразованы в утверждения логики; во-вторых, в результате такого перевода все истины арифметики должны стать истинами логики. Если учесть, что вся математика может быть сведена к арифметике, данная программа представляет собой проект последовательного выведения всего математического знания из логического. Несмотря на то, что осуществление задач, поставленных Фреге, в целом носит технический характер и на первый взгляд далеко отстоит от насущных проблем философии, их реализация имеет исключительный характер, в том числе и для последней. Со времён Канта истины арифметики и логики считались истинами совершенно различных типов, проходя под рубрикой синтетических и аналитических соответственно. Успешная реализация логицистской программы потребовала бы пересмотра характера всего математического знания, устранив из области арифметики созерцание.
Определяя число в логических терминах, Фреге начинает с того, что переводит анализ чисел в область понятий. С его точки зрения, указание на определённое число предполагает соответствующее понятие, под которое подпадает это же самое количество предметов. Например, «понятию соответствует число 0, если при любом а, предложение, что а не подпадает под это понятие, имеет всеобщее значение. Сходным образом можно сказать: понятию F соответствует число 1, если при любом а, предложение, что а не подпадает под F, не имеет всеобщего значения и если из предложений “а подпадает под F” и “b подпадает под F” всегда следует, что a и b суть одно и то же»[59]. Такой подход представляется очевидным, и аналогичным образом можно построить весь ряд чисел. Но этого определения явно не хватает, поскольку неясно, что именно считать числом, а что нет. Поэтому данное определение необходимо дополнить общим понятием числа, которое не использовало бы указание на какое-то конкретное число, и уже отталкиваясь от него, дать определение отдельных чисел. С точки зрения Фреге, число представляет собой предмет и, стало быть, всегда, когда речь идёт о количестве чего-то, как, например, в предложении “Число спутников Юпитера есть четыре” связка есть употребляется не атрибутивно, а как равенство. Поэтому действительная форма данного предложения должна выглядеть следующим образом: “Число четыре равно числу спутников Юпитера”. Таким образом, чтобы определить число, необходимо эксплицировать смысл равенства. Равенство определяется через отношение взаимнооднозначного соответствия двух классов, представляющих собой объёмы некоторых понятий. Поэтому число можно понимать как то, что соответствует классу всех тех классов, которые имеют одинаковое количество предметов. Так, например, число два соответствует классу всех тех классов, которые содержат ровно два предмета, число три соответствует классу всех тех классов, которые содержат три предмета, и т.д.
Подобное определение числа не содержит круга, как может показаться на первый взгляд, поскольку определение равенства двух классов не обязательно требует указания на число содержащихся в них предметов. Так, например, ожидая прихода гостей, мы можем сказать, что на накрытом столе в результате будет ровно столько обеденных приборов, сколько придёт гостей, хотя можем и не знать заранее, сколько их будет точно. Класс гостей и класс столовых приборов в этом случае находятся во взаимнооднозначном соответствии и согласно терминологии Фреге являются равными. Учитывая, что класс представляет собой объём понятия, общее определение числа можно было бы тогда ввести следующим образом: «Выражение “n есть число” равнозначно выражению “Существует понятие такое, что n есть соответствующее ему число”»[60]. Таким образом, число можно определить как то, что соответствует классу всех тех классов, которые равны некоторому данному классу. Например, можно было бы сказать, что число два соответствует классу всех тех классов, которые равны классу спутников Марса, а число три соответствует классу всех тех классов, которые равны классу граций, и т.д. Однако такое понимание числа было бы сугубо эмпирическим, а стало быть, бесполезным для целей арифметики. Поэтому при определении каждого числа необходимо найти такое понятие, которое имело бы не только соответствующий объём, но и вводилось бы с помощью исключительно логических терминов, т.е. аналитически.
Фреге развивает данную программу с определения нуля, который соответствует классу всех тех классов предметов, которые не равны сами себе. Так как не существует предметов, неравных самим себе, – Фреге считает данное утверждение аналитическим в смысле Канта – есть только один подходящий класс, это класс не содержащий элементов, нуль-класс. Входящие в него предметы как раз и подпадают под соответствующее понятие, как указано выше. Отталкиваясь от определения нуля, можно ввести все остальные числа. Поскольку нуль-класс единствен, то число один определяется как то, что соответствует классу всех тех классов, которые равны классу нуль-классов, или как то, что соответствует классу всех тех классов, которые равны классу, чьим единственным элементом является нуль-класс. Число два определяется как то, что соответствует классу всех тех классов, которые равны классу, содержащему нуль-класс и класс нуль-классов, т.е. класс, соответствующий числу один. Число три определяется как то, что соответствует классу всех тех классов, которые равны классу, содержащему нуль-класс, класс, которому соответствует число один, и класс, которому соответствует число два. Эти определения можно продолжить до бесконечности. Заметим, что данные определения сохраняют отношение порядка и все известные свойства ряда натуральных целых чисел.
Определения числа в терминах логики позволило: во-первых, рассмотреть способы рассуждения, ранее считавшиеся сугубо математическими (например, принцип математической индукции), как разновидность логического метода получения следствий; во-вторых, объяснить природу трансфинитных и комплексных чисел, существование которых казалось парадоксальным. Таким образом, арифметика получала столь необходимое ей достоверное основание, которое связывалось с очевидностью логического знания.
1.2. Б.Рассел: Онтология, эпистемология, логика
Реформа логики, предпринятая Г.Фреге, некоторое время оставалась в тени, что в немалой степени объясняется не только оригинальностью предлагаемых идей, плохо воспринимаемых в обстановке господствующего психологизма в основаниях математики и логики, но и чрезвычайно громоздким формальным аппаратом, в который они были облечены. Формальный язык (Beggriffshrift), используемый немецким логиком, отличался экстравагантностью (например, он был не линейным, а двумерным), и потребовались значительные изменения выразительных средств, чтобы идеи Г.Фреге получили известность в широких кругах. Исторически сложилось так, что последние во многом стали доступны читателям через посредство работ Бертрана Рассела, который, осознав их значение, первым взял на себя труд облечь их в доступную форму. Кроме того, ко многому из того, что было сделано Фреге, Рассел пришёл самостоятельно (например, к функциональной трактовке высказываний). Близка ему и программа логицизма, которую он развивает во многих продуктивных отношениях, отдавая дань первенства Г.Фреге в постановке самой проблемы. У Г.Фреге Рассел прежде всего наследует то уважительное отношение к выразительным средствам, которое позволило реформировать логику и основания математики. Однако было бы совершенно неверным представлять Рассела только как ученика немецкого логика в анализе языка, используемого в данных областях. Достигнутое здесь Рассел рассматривает прежде всего как философ, привлекая приглянувшиеся ему идеи для решения определённых проблем онтологии и теории познания. Сходство формы, в которую облечены рассуждения Рассела и Фреге, чисто внешнее, а их исследования имеют различные интенции.
Знакомство со взглядами Б.Рассела при изучении философии Л.Витгенштейна особо значимо, поскольку философская система второго конституировались под непосредственным влиянием первого. Дело даже не в том, что философскую деятельность Л.Витгенштейн начинал в качестве ученика Рассела, когда по совету Г.Фреге прибыл для продолжения образования в Кембридж. Ученичество очень скоро переросло в сотрудничество, в результате которого Рассел существенно изменил свои взгляды. Критический запал философии раннего Витгенштейна во многом направлен именно против тех концепций, которые английский философ развивал до встречи с ним и которым остался во многом верен в дальнейшем. Краткая экспозиция этих концепций является необходимой пропедевтикой к идеям, выраженным в ЛФТ.
1.2.1. Онтологика отношений
Онтологическая направленность логических изысканий Рассела прежде всего проявилась в предпринятом им анализе логической структуры отношений. В отличие от Фреге, для которого анализ логики выразительных средств был связан с реформой языка математического рассуждения, Рассела заинтересовало отношение структур мысли к тому, что мыслится. Вопрос этот имеет чрезвычайную философскую важность, поскольку, как показывает анализ различных учений, понимание познавательных способностей и онтологических структур всегда ставилось в зависимость от форм мышления, выделенных в процессе логического анализа форм представления знания. В частности, Рассела заинтересовал вопрос о том, каким образом связаны философский монизм и плюрализм с рассмотрением мышления с точки зрения субъектно-предикатной структуры суждения, предлагаемого традиционной логикой.
Дело в том, что членение любого суждения по субъектно-предикатной схеме ставит проблему реальности отношений, о которых также может идти речь в высказывании. Для объяснения проблемы обратимся к тому, как традиционная логика представляет эту структуру. Так, например, “Сократ – человек” – это суждение о наличии у предмета свойства, что в самом суждении трансформируется в приписывании субъекту (S) предиката (P). В общем виде структура подобных суждений представима в форме “S есть P”. Данный пример не вызывает сомнений, однако если мы возьмём суждение “Сократ – учитель Платона”, то, как кажется, здесь речь идёт об отношении между предметами. Однако традиционная логика и это суждение трактует как отношение предмета и свойства. Правда, в данном случае свойство представлено сложным выражением ‘учитель Платона’. Зато формальное представление высказываний сохраняет единообразие, поскольку и эта структура представима в виде “S есть P”. Подобный подход создаёт впечатление о нереальности отношений. На этом допущении основано множество философских систем, где логическая редукция отношений отражается в онтологии, поскольку все отношения начинают рассматриваться как внутренние, т.е. образующие часть присущего субстанции сложного свойства, и не имеющие собственного онтологического статуса.
Трактовка отношений как внутренних, т.е. редуцируемых к свойствам, допускает двоякую интерпретацию: плюралистическую или монистическую. Первая наиболее адекватно демонстрируется философией Лейбница и основана на представлении о множественности субстанций. Предположим, что Сократ и Платон представляют собой различные субстанции, видимость связывает эти субстанции опредёленными отношениями: учитель и ученик. Однако с точки зрения на отношения как внутренние мы на самом деле имеем здесь дело с выражением двух свойств двух субстанций, а именно свойства учитель Платона, присущего субстанции Сократ, и свойства ученик Сократа, присущего субстанции Платон. Отношение учитель и обратное ему отношение ученик редуцируются к свойствам субстанций. Точно так же можно проанализировать любое другое отношение, которое распадается на свойства. В общем виде любое высказывание о наличие отношения R между предметами а и b редуцируется к высказываниям о наличии у предмета а свойства Р, а у предмета b свойства Q. Выражение вида ‘aRb’ преобразуется в логическое умножение, имеющее вид ‘(a есть P) × (b есть Q)’. Нетрудно видеть, что такой подход предполагает независимость субстанций друг от друга, так как они полностью определены совокупностью присущих им свойств и не вступают в отношения с другими субстанциями. а и b оказываются самодостаточными предметами, полностью описываемыми системой присущих им свойств, в том числе и сложных, структура которых инкорпорирует систему внутренних отношений. Следствие такого подхода находит выражение в известном утверждении Лейбница о самодостаточности монад, которые “не имеют окон”.
Подход философии монизма, который Рассел связывает прежде всего с современными ему неогегельянцами, и в частности, с Ф.Брэдли, основан на том, что всё, что может определяться в качестве субъектов отношения (как а или b), есть не что иное, как проявление атрибута некоторой единой, самотождественной и нерасчленимой реальности, имеющей временные, пространственные и причинные определения в отношении познающего разума. С точки зрения монизма отношение должно усматриваться как свойство совокупности, в которой снято противопоставление а и b. Так, отношение R должно рассматриваться как свойство целостного сложного субъекта {ab}. Наиболее адекватно этот подход иллюстрируется отношением тождества, которое при такой интерпретации превращается в свойство самотождественности субстанции. Монистическую философию не смущает, что при данном подходе возникают затруднения с интерпретацией большинства высказываний об отношениях, например, вряд ли с ходу можно усмотреть в высказывании “Сократ – учитель Платона” суждение о свойстве некоторого единства, образуемого Сократом и Платоном. Тем не менее нужно помнить, что неогегельянцы скорее предлагают подобный анализ как общий принцип, который нельзя вполне выразить в формально-логических структурах. Последнее считается ими достаточным основанием для того, чтобы критиковать формальную логику, отрицая за ней какое-либо познавательное значение, и предпочитать непосредственное усмотрение абсолюта. И всё же подобная редукция отношений вполне укладывается в систему взглядов традиционной логики на субъектно-предикатную структуру суждений.
Как плюралистическую, так и монистическую редукцию отношений можно подвергнуть серьёзной критике. Вернёмся к плюралистической онтологии. Редукция отношения к свойствам Р и Q заставляет нас поставить вопрос о том, на каком основании мы рассматриваем одно из них как конверсию другого? Если такого основания нет, тогда наш анализ исходного суждения повисает в воздухе, становится проблематичным. Если же такое основание есть, тогда возникает вопрос о соотношении этих свойств, что лишь возрождает проблему на новом уровне (т.е. проблематичным становится не ‘aRb’, а ‘PRQ’), но ни в коем случае её не решает. Если вспомнить Лейбница, то данное затруднение репродуцируется у него как вопрос о предустановленной гармонии, что остаётся в области философских спекуляций и никоим образом не связано с собственно логическим анализом. На самом деле вопрос о предустановленной гармонии и есть вопрос об отношениях, но, правда, об отношении свойств отдельных субстанций. Таким образом, плюрализм, редуцирующий отношения к свойствам отдельных субстанций, проблему не решает, но возрождает её как проблему второго уровня.
Аналогичные проблемы связаны и с философским монизмом. Если а и b объединены единством абсолютной реальности, как считают неогегельянцы, то любое отношение, которое фиксирует их порядок (например, переход от а к b, но не от b к а, как в случае асимметричных отношений), нельзя объяснить как свойство целокупности. Возьмём, например, отношение любви между Дездемоной и Кассио. Очевидно, что здесь в рассмотрение должен вкрадываться порядок элементов целокупности, поскольку их перестановка по-разному отражалась бы на творчестве Шекспира. При асимметричности отношений свойство R будет иметь различный смысл в случаях, когда мы берём целокупность {ab} или целокупность {ba}, что с точки зрения монизма было бы безразлично. Порядок, который в данном случае необходимо зафиксировать в рамках целостности, конечно же требует понятия об отношении, и любая попытка свести его к свойству должна терпеть неудачу.
Технический анализ отношений, предпринятый Расселом, как раз и показал несводимость отношений к свойствам. Оказалось, что если мы стремимся построить онтологию, отвечающую здравому смыслу, и при этом не допускать слишком уж сильных предположений, типа предустановленной гармонии, отдающей отношения в компетенцию божественного разума, то необходимо признать за отношениями реальность. Причём это реальность не психологическая в том смысле, что отношения не являются порождениями особенностей нашего мыслительного аппарата, связанного со спецификой психической организации, но именно та реальность, которая позволяет объяснить объективность формальных структур представления знаний. Здесь Б.Рассел принимает допущение о существовании внешних отношений, которые представляют собой элементы действительности sui generis или то, что впоследствии он будет рассматривать как примитивные значения, не сводимые к другим элементам. Отныне реальность отношений для Рассела будет представлять исходный пункт рассуждений. Включив отношения в список элементарных реалий, он в дальнейшем будет осуществлять последовательную попытку сведения к ним свойств, даже называя свойства одноместными отношениями.
Разумеется, в некоторых случаях, когда отношения рефлексивны, симметричны и транзитивны, то есть являются отношениями эквивалентности, допустимо редуцировать их к свойствам, и даже полезно, например при определении числа с точки зрения класса классов, находящихся во взаимнооднозначном соответствии. Но при более обширной выборке случаев это просто невозможно. Более того, допустима редукция любого свойства к отношению, но не наоборот.
Рассмотрим примеры. Возьмём отношение соотечественник. Это отношение является отношением эквивалентности, так как обладает свойствами рефлексивности, симметричности и транзитивности. Действительно, свойство рефлексивности очевидно, поскольку каждый человек сам себе соотечественник. Симметричность подтверждается тем, что если Сократ соотечественник Платона, то и Платон соотечественник Сократа. А о транзитивности данного отношения говорит то, что если Аристотель соотечественник Платона, то он является и соотечественником Сократа. Отношению соотечественник в данном случае соответствует класс людей, обладающих общим свойством быть греком. Кроме того, это отношение порождает совокупность непересекающихся классов, так называемых классов эквивалентности, обладающих общим свойством элементов, из которых они состоят, а именно, быть немцем, быть русским и т.д. (правда, при подходящем понимании свойства национальности). В общем случае можно сказать, что если отношение R обладает указанными признаками, то оно сводимо к некоторому свойству P, отвечающему за соответствующий класс эквивалентности. Но при отношениях, обладающих другими свойствами, дело обстоит иначе.
Если взять асимметричное отношение, например учитель, то здесь дело не сводится к наличию класса с общим свойством. Так, если а учитель b, то это говорит не только об отличии а от b, поскольку если бы это было так, то и b характеризовалось бы лишь отличием от а. Но так как отличие является отношением симметричным, то можно было бы образовать класс эквивалентности, обладающий общим свойством, который охватывал бы и а, и b. Порядок, в котором мы рассматриваем отношение a к b, этого не допускает. Значит, асимметричное отношение, если позволительно так сказать, говорит как о некотором сходстве, так и о некотором отличии, и не сводимо к свойству, а представляет собой нечто такое, что должно рассматриваться как своеобразная сущность. Свойства же, в свою очередь, можно очень просто свести к отношениям, причём никаких проблем не возникает. Возьмём некоторое свойство, к примеру свойство быть красным. Это свойство задаёт класс красных предметов. Из элементов этого класса всегда можно выделить образец, скажем предмет а, и рассматривать все остальные предметы данного класса как находящиеся к выделенному предмету в отношении цветоподобия. Отношение же цветоподобия обладает всеми свойствами, необходимыми для того, чтобы задать классы эквивалентности, а значит, оно вполне может заменить свойство. Отсюда следует очень важный для Рассела вывод: если отношения и не сводимы к свойствам, то свойства вполне сводимы к отношениям[61].
Традиционная логика, очевидно, не приспособлена для выражения отношений; подходящий аппарат Рассел находит как раз в функциональной логике Г.Фреге, которая позволяет не только адекватно описать требуемые структуры, но и учесть всё многообразие вытекающих отсюда следствий, например наличие отношений между большим количеством предметов, чем два.
1.2.2. Логика и ‘чувство реальности’
Установив зависимость онтологических представлений от логической структуры, Рассел показал, что избранный способ формализации затрагивает не только структуру мысли, но и нечто говорит о мире. Оказалось, что способы построения онтологий, базировавшиеся на том, как традиционная логика представляла структуру суждения, не являются единственными, а представляют собой лишь один из возможных вариантов. Плюралистическая онтология, основанная на внешних отношениях, построенная Расселом в соответствии с функциональной точкой зрения на высказывания, является, по-видимому, одним из самых интересных его достижений, как логических, так и философских. Ему удалось показать, что онтологию можно рассматривать как следствие определённой формально-логической доктрины. Выявление структуры мысли задаёт структуру мыслимого, и в этом отношении формальная логика приобретает трансцендентальное содержание. Однако в рамках самой логики всё это остаётся на уровне бессодержательных моделей, которые, как таковые, имеют дело с любой возможностью. «В логике было бы пустой тратой времени рассматривать выводы относительно частных случаев; мы имеем дело всегда с совершенно общими и чисто формальными импликациями, оставляя другим наукам исследование того, в каких случаях предложения подтверждаются, а в каких нет»[62]. Устанавливая границы логики как науки о возможном, Рассел тем не менее корректирует само понятие возможности. На всём протяжении развития его характеризует то, что сам он называет ‘чувством реальности’. Здесь показательным выглядит его следующее заявление, может быть полемически и заострённое, но весьма характерное: «Логика должна допускать единорогов не в большей степени, чем зоология, потому что логика имеет дело с реальным миром в той же степени, что и зоология, хотя с его наиболее абстрактными и общими чертами: повинуясь чувству реальности, мы будем настаивать на том, что в анализе суждений нельзя допускать ничего ‘нереального’»[63]. Стало быть, формальная логика для Рассела хотя и является наукой о возможном, всё равно имеет единственную реализацию, и эта реализация есть наш действительный мир.
Из такого понимания логики вытекают как минимум два важных следствия, придающих специфическую окраску взглядам Рассела на содержание и границы формального анализа.
1. С одной стороны, имея в перспективе действительный мир, Рассел к числу логических принципов относит такие утверждения, которые выглядят несколько сомнительными, поскольку не имеют аналитического характера. Последнее придаёт развиваемой им логике ‘реистическую окраску’.
2. С другой стороны, так как Рассел наполняет логику онтологическим содержанием, он стремится представить процесс познания таким образом, чтобы тот соответствовал логическим структурам, выведенным с помощью чисто формального исследования.
Эти две разнонаправленные, но связанные между собой тенденции пронизывают всё творчество раннего Рассела, и именно те положения, которые относятся к их реализации, подверглись наиболее острой критике Витгенштейна и потребовали существенных изменений. Рассмотрим их несколько подробнее. Начнём с того, каким образом логика у Рассела приобретает реистический характер.
1.2.3. Теория типов
Уже говорилось, что Рассел принимает функциональную трактовку высказываний, предложенную Фреге. Однако его не всё в ней удовлетворяет. В частности, Рассел не принимает фрегеанскую трактовку функции как неопределяемого понятия. Напомним, что с точки зрения Фреге, выделение в высказывании функции и аргумента зависит от контекста и то, что рассматривалось в качестве функции, может становиться аргументом, и наоборот. Отталкиваясь от такого понимания, Б.Рассел сформулировал свой знаменитый парадокс. Если функция и аргумент находятся на одном и том же уровне, то, сконструировав высказывание, в котором одно и то же выражение может рассматриваться одновременно как функция и как аргумент этой функции, можно прийти к противоречию. В письме к Фреге Рассел следующим образом высказывает свои сомнения: «Вы утверждаете, что функция может быть неопределяемым элементом. Я тоже так считал, но теперь этот взгляд кажется мне сомнительным из-за следующего противоречия: Пусть w будет предикатом ‘быть предикатом, не приложимым к самому себе’. Приложим ли w к самому себе? Из любого ответа вытекает противоречие. Стало быть, мы должны заключить, что w не является предикатом. Также не существует класса (как целого) тех классов, которые, как целое, являются членами самих себя. Отсюда я заключаю, что при определённых обстоятельствах определяемое множество не образует целого»[64].
Проясним данный парадокс на примере. Согласно каждой высказывательной функции можно образовать класс предметов. Например, функции ‘чайная ложка (х)’ соответствует класс индивидов, удовлетворяющих данную функцию (т.е. при заполнении аргументного места, делающих соответствующее высказывание истинным) и являющихся чайными ложками. Принцип интуитивной абстракции позволяет образовывать классы с любым набором индивидов. Причём при неограниченном применении этого принципа в качестве индивидов могут выступать и сами классы (т.е. они сами могут рассматриваться как заполняющие аргументные места соответствующих функций). Например, функции ‘класс предметов (х)’ будет соответствовать класс всех классов любых предметов. При таком подходе некоторые классы могут содержать только индивиды, а некоторые - и индивиды, и классы, рассматриваемые в качестве индивидов. Среди последних особый интерес представляют классы, содержащие себя в качестве собственных элементов. Например, класс чайных ложек сам чайной ложкой не является, он состоит только из индивидов, а класс всех предметов, не являющихся чайными ложками, сам не будет являться чайной ложкой и, следовательно, будет являться членом самого себя. Образование классов последнего типа зависит от возможности образования таких функций, которые могут быть собственными аргументами. Рассмотрим ещё один пример. Возьмём класс последнего типа, а именно класс всех тех классов, которые не являются элементами самих себя (в функциональном выражении ‘класс, не являющийся элементом самого себя (х)’). Если мы зададимся теперь вопросом о том, можно ли рассматривать сам этот класс как удовлетворяющий соответствующую себе функцию, получится противоречие. В самом деле, если он её удовлетворяет, то он не должен содержаться в себе самом, а если он её не удовлетворяет, то он должен содержаться в себе самом.
Противоречие демонстрирует неприемлемость такого понимания функции и аргумента, которое имеет место у Фреге, но это ещё не означает, что неверна функциональная трактовка логической структуры высказывания. Для решения парадокса Рассел разрабатывает так называемую теорию типов, которая по существу сводится к ограничениям, накладываемым на образование классов, а стало быть, и соответствующих высказывательных (пропозициональных) функций. Так, например, он пишет: «Общность классов в мире не может быть классом в том же самом смысле, в котором последние являются классами. Так мы должны различать иерархию классов. Мы будем начинать с классов, которые всецело составлены из индивидов, это будет первым типом классов. Затем мы перейдём к классам, членами которых являются классы первого типа: это будет второй тип. Затем мы перейдём к классам, членами которых являются классы второго типа; это будет третий тип и т.д. Для класса одного типа никогда невозможно быть или не быть идентичным с классом другого типа»[65]. На образование классов необходимо накладывать ограничения, запретив образовывать классы, которые могли бы выступать в качестве своих собственных элементов. Классы должны образовывать строгую иерархию, где первый уровень представляли бы собой классы, содержащие только индивиды, второй уровень – классы, содержащие классы индивидов, третий уровень – классы, содержащие классы классов индивидов, и т.д. Разные уровни требуют различных средств выражения; то, что можно сказать об индивидах, нельзя сказать об их классах, а то, что можно сказать о классах индивидов, нельзя сказать о классах классов индивидов и т.д. В общем, это и составляет сущность теории типов.
В применении к высказывательным функциям это означает, что ни одна функция не может быть применена к самой себе; то, что рассматривается в качестве аргумента, никогда не должно становиться функцией, и наоборот, на одном и том же уровне. Последнее требование закрепляется Расселом в теории удовлетворительного символизма. Зафиксировать тип – значит зафиксировать соответствующий тип символа, указывающий на соответствующее значение. С точки зрения Рассела, к парадоксам приводит смешение различных типов, которого необходимо избегать. При таком подходе, очевидно, отпадает надобность в оценке контекста целостного высказывания. Значение символа должно заранее определяться словарём, который сконструирован иерархическим образом согласно типам, а правила образования выражений накладывают ограничения на использование словаря.
Теория типов становится для Рассела универсальным методом решения парадоксов, не только обнаруженных им самим, но и известных с давних времён. Возьмём, например, парадокс лжеца. Если некто высказывает утверждение “Я сейчас лгу”, то с традиционной точки зрения, при попытке определить истинностное значение этого утверждения мы всегда придём к противоречию. Действительно, поскольку он лжёт, то ложным должно быть и высказанное им утверждение; но, учитывая его содержание, мы тогда должны сказать, что оно истинно. Если же его утверждение истинно, то, согласно утверждаемому содержанию, оно говорит о своей собственной ложности и, стало быть, является ложным. В любом случае возникает противоречие. Но, используя теорию типов, Рассел решает этот парадокс, разводя по разным уровням высказывания, о которых говорит это утверждение, и само это утверждение[66]. С точки зрения теории типов, человек, утверждающий, что он лжёт, имеет в виду ложность по крайней мере одного высказывания из класса высказываний, охватываемых его утверждением. Но само его утверждение не должно включаться в этот класс, поскольку оно относится к более высокому типу. Поэтому истинностная оценка должна релятивизироваться относительно типа высказанных утверждений. Любое утверждение о высказываниях n-го типа само будет относиться к n+1 типу и не должно включаться в класс оцениваемых высказываний.
Символическая система Фреге не удовлетворяет требованиям теории типов, поэтому в ней и можно сформулировать парадоксальные утверждения.
1.2.4. Коррекция определения числа и аксиома бесконечности
Формулировка парадокса затрагивает не только противоречивость рассуждения, но и другой важный аспект логицистской программы Г.Фреге, который связан с определением арифметических понятий в логических терминах. Определение числа по Фреге, как оно было сформулировано выше, требует рассматривать классы, состоящие из элементов, принадлежащих к различным типам. Например, уже определение числа два предполагает класс, образованный из нуль-класса и класса, элементом которого является сам нуль-класс. Однако именно это и содержит парадокс, который обнаружил Рассел. Рассел сохраняет логицистскую установку на то, что арифметика сводима к логике, но в свете установленного противоречия определение числа должно быть модифицировано таким образом, чтобы исключить смешение типов.
Рассел выходит из затруднения следующим образом[67]. Он сохраняет общий фрегеанский подход к числу с точки зрения классов, находящихся во взаимно-однозначном соответствии. Сохраняет он и определение нуля как класса неравных самим себе объектов. Модификация определения начинается с числа один. Число один соответствует классу всех классов, находящихся во взаимно-однозначном соответствии с классом, содержащим один объект. Число два соответствует классу всех классов, находящихся во взаимно-однозначном соответствии с классом, который состоит из объекта, использованного при определении числа один, плюс новый объект и т.д. Определение, построенное таким способом, избегает парадокса, поскольку соблюдает требование теории типов. Объекты, используемые при определении чисел, принадлежат одному и тому же типу. Однако оно требует введения дополнительного постулата. Определение каждого последующего числа в последовательности натуральных чисел требует нового объекта. Но поскольку натуральный ряд бесконечен, постольку должно предусматриваться и бесконечное количество объектов. Так в логической системе Рассела возникает аксиома бесконечности, а именно допущение о том, что любому заданному числу n соответствует некоторый класс объектов, имеющий n членов[68].
1.2.5. Логические фикции и аксиома сводимости
В Principia Mathematica, труде, в котором Рассел совместно с Уайтхедом попытались последовательно развить предпосылки логицизма, теория типов, аксиома бесконечности и рассматриваемая ниже аксиома сводимости включаются в число логических предложений. Однако здесь возникает проблема, связанная со статусом данных положений. Характеристика различных уровней бытия, предложенная теорией типов, или аксиома бесконечности, характеризующая совокупность предметов в мире, выходит за рамки аналитического знания. Разрабатывая теорию типов, Рассел говорит о недопустимости определённой комбинации символов в языке логики. Однако то, что он имеет в виду, выходит за рамки символической комбинаторики, поскольку сами по себе символы основания для такого запрета не дают. Ограничения возможны только тогда, когда в расчёт принимается определённая интенция значения. Стало быть, теория типов основана на онтологической предпосылке о допустимых видах значений и существенно от неё зависит.
Формулируя теорию типов, Рассел говорит о классах, но это не означает, что он допускает их реальное существование, поскольку это возрождало бы иерархическую структуру бытия в смысле Платона, и даже превосходило бы предложенное последним удвоение реальности, так как предполагало бы её умножение ad infinitum соответственно умножению различных типов знаков. Кроме того, с реальностью классов связан ряд следствий, принять которые Расселу мешает установка на здравый смысл. Согласно способу построения классов из любой совокупности n предметов можно образовать 2n классов. Например, взяв совокупность из трёх предметов a, b, c, можно образовать восемь классов. Это следующие классы: нулевой класс, классы {a}, {b} и {c}; затем, {bc}, {ca}, {ab}, {abc}. Рассмотрим теперь совокупность всех вещей, существующих в мире. Очевидно, что число классов, образованных из этих вещей, будет больше числа их самих, поскольку 2n всегда больше, чем n. Теперь, если мы принимаем реальность классов, получается парадоксальный вывод. Оказывается, что число всех действительно существующих вещей меньше, чем их имеется на самом деле. Рассел не принимает этого парадоксального вывода, выходя из положения тем, что дифференцирует понятие существования соответственно типам значений. Говорить о существовании индивидов – это совершенно иное, чем говорить о существовании составленных из них классов. Последнее есть лишь façon de parler, от которого при желании всегда можно избавиться. Здесь возникает концепция неполных символов, рассматривающая классы как логические фикции. Надлежащая трактовка классов должна исключить их из перечня самостоятельных сущностей, а то, что мы рассматриваем как обозначение классов, должно быть сведено к обозначению сущностей, не вызывающих сомнений в своём существовании.
Осуществляя подобную редукцию, Рассел отталкивается от того, что класс может быть однозначно задан как система значений некоторой высказывательной функции, а стало быть, всё, что можно сказать о классах, с успехом переводимо на язык функций: «Вы хотите сказать о пропозициональной функции, что она иногда является истинной. Это то же самое, как если о классе говорят, что он имеет члены. Вы хотите сказать, что это истинно в точности для 100 значений переменных. Последнее одинаково с тем, когда о классе говорят, что он имеет сто членов. Всё то, что вы хотите сказать о классах, одинаково с тем, что вы хотите сказать о пропозициональных функциях, исключая случайные и неуместные лингвистические формы»[69]. Так утверждение, что класс спутников Марса включает два элемента, заменимо на утверждение о том, что пропозициональная функция ‘спутник Марса (х)’ истинна ровно при двух значениях переменной.
При замене классов на функции возникают некоторые проблемы, краткую экспозицию которых мы сейчас представим. Один и тот же класс можно задать с помощью различных функций. Например, класс людей будет задавать и функция “беспёрое, двуногое (х)” и “политическое животное (х)”. Такие функции (т.е. функции, которые удовлетворяет одинаковый набор аргументов), Рассел называет формально эквивалентными. А раз эти функции специфицируют один и тот же класс предметов, то в некоторых контекстах их можно заменить друг на друга, причём истинность целого не изменится, как, например, в “Сократ является беспёрым и двуногим”. Такие контексты Рассел называет экстенсиональными. Эти контексты не допускают двусмысленностей; входящие в них функции вполне можно рассматривать вместо классов. Причём всё, что можно сказать о какой-либо функции, будет приложимо и к функции, формально ей эквивалентной. Значит, любое высказывание о классе можно заменить высказыванием об одной из формально эквивалентных функций, однозначно этот класс специфицирующей. Однако здесь возникает проблема. Дело в том, что не всегда то, что можно сказать об одной формально эквивалентной функции, будет приложимо к другой. Примером такого неэкстенсионального контекста может служить высказывание “Платон утверждал, что беспёрость и двуногость однозначно определяют человека”. В него входит функция ‘двуногое и беспёрое (х)’, но попытка заменить её на функцию ‘политическое животное (х)’ сделает высказывание ложным. Следовательно, не всё, что можно сказать об одной функции, приложимо к другой. Однако Рассел считает, что можно сконструировать такую формально эквивалентную функцию, которая удовлетворяла бы требуемому свойству. Другими словами, и для ‘беспёрое, двуногое (х)’ и для ‘политическое животное (х)’, существует формально эквивалентная функция, которая однозначно определяет класс людей и при этом является экстенсиональной. В общем случае, если имеется высказывание, изменяющее своё истинностное значение при замене одной формально эквивалентной функции на другую, всегда можно сконструировать функцию формально, эквивалентную исходным функциям, которая будет экстенсиональной. С её помощью и можно любое высказывание о классе преобразовать в высказывание о функции.
Единственное ограничение, накладываемое Расселом на образование такой функции, связано с требованием теории типов. Она должна указывать предикативное свойство соответствующего класса. Различие между предикативными и непредикативными свойствами можно проиллюстрировать следующим примером. Рассмотрим свойство быть человеком и свойство иметь все свойства человека. И то и другое относятся к одному и тому же классу предметов, но в отличие от первого, второе свойство имеет в виду и само себя. Так как если мы утверждаем, что Сократ имеет все свойства человека, то наряду с приписыванием ему свойств быть двуногим и беспёрым, быть политическим животным и т.д. мы приписываем ему и свойство иметь все свойства человека. Непредикативное свойство самореферентно, т.е. указывает и на само себя. Соответственно, функция, выражающая самореферентное свойство, будет применяться сама к себе, что, как было показано выше, приводит к парадоксу. С точки зрения Рассела, функции, выражающие непредикатитвные свойства, должны относиться к более высокому типу, чем функции, выражающие предикативные свойства, несмотря на то, что они специфицируют один тот же класс. Таким образом, функции, как и классы, должны рассматриваться в строгой иерархии, которая конструируется Расселом в разветвлённой теории типов.
Утверждение о существовании формально эквивалентной предикативной функции, которая может заменить класс во всех контекстах, доказать конструктивными средствами невозможно. Поэтому Рассел принимает его как аксиому, так называемую аксиому сводимости, которая формулируется следующим образом: «Существует такая формально эквивалентная предикативная функция f, что для всякого x аргумент x удовлетворяет функцию f тогда и только тогда, когда он удовлетворяет функцию f». Символически:
ú¾ ($f) (x) (fxºf!x),
где ‘º’ знак тождества, а ‘!’ в выражении ‘f!x’ указывает на предикативность функции f.
1.2.6. Примитивные значения и теория дескрипций
Рассмотрение отношений, чисел и классов демонстрирует один важный принцип, который практикует Рассел. Логический анализ воспринимается им как метод, который устанавливает критерий того, что может рассматриваться как реально существующее, а что нет. Например, отношения, которые нельзя редуцировать к свойствам, реальны, а числа и классы – нет, поскольку вторые суть фикции, так как редуцируемы к пропозициональным функциям, а первые суть фикции фикций, так как редуцируемы к классам. Основная проблема, обнаруживаемая данным анализом, связана с использованием определённых выразительных средств. Дело в том, что язык, повседневно используемый для выражения мыслей, скрывает их действительную структуру. Задача философского исследования – выявить эту структуру и зафиксировать с помощью искусственного языка, который был бы свободен от двусмысленностей языка естественного. Искусственный язык должен способствовать освобождению выражений науки от компонентов, имеющих фиктивное значение. Особый смысл в таком исследовании приобретает логика, формальные методы которой и позволяют разработать такой язык. Последующее расширение границ и методов формального анализа ставится Расселом в зависимость от того, что рассматривать в качестве допустимых типов значения.
Обнаружение средствами логического анализа фикций ставит перед Расселом проблему того, что можно считать примитивным, далее нередуцируемым значением и что должен представлять собой символ, такому значению удовлетворяющий. При всей неопределённости понятия примитивного значения, независимо от того, затребовано это понятие сугубо логическими потребностями или же нет, у Рассела оно связано с принимаемыми теоретико-познавательными установками, и в частности с разрабатываемым им разделением знания на два разнородных типа: во-первых, знание по знакомству; во-вторых, знание по описанию. Концепция двух типов знания лежит в основании второй из указанных выше детерминаций творчества Рассела и также оказывает значительное влияние на интерпретацию логических идей, но характеризует уже не онтологическое содержание развиваемой им логики, а её теоретико-познавательное значение. В основании любого знания, считает Рассел, лежит непосредственное знакомство с объектом: «Мы говорим, что знакомы с чем-либо, если нам это непосредственно известно, – без посредства умозаключений и без какого бы то ни было знания суждений (истины)»[70]. Любое другое знание может рассматриваться только в качестве опосредованного логическими структурами мышления, интегрирующего языковые средства, либо в качестве выводного знания, либо в качестве указания на фиксированные свойства, включённые в структуру описания предмета. В последнем случае «мы знаем описание, и мы знаем, что есть какой-то предмет, точно соответствующий этому описанию, но сам этот предмет нам непосредственно не известен. В этом случае мы говорим, что наше знание предмета есть знание предмета по описанию»[71]. Рассел не считает описание какой-то новой познавательной процедурой, отличной от тех, что предлагали традиционные теории познания. Оно не есть новый логический элемент наряду с понятием, суждением и умозаключением. «Знание вещей по описанию всегда предполагает в качестве своего источника некоторое знание истинных суждений», таким образом, «всё наше знание, как знание вещей, так и знание суждений (истины), строится на знании-знакомстве, как на своём фундаменте»[72]. Рассел отводит логике роль своеобразной редукционной процедуры, связанной с аналитическим смыслом самого философствования, поскольку «основной принцип в анализе положений, содержащих описание, гласит: каждое предложение, которое мы можем понять, должно состоять лишь из составных частей, нам непосредственно знакомых»[73].
Таким образом, конституенты выражений должны сводиться к элементарным символам, значение которых нам непосредственно знакомо. Что же можно рассматривать в качестве примитивных, неопределяемых далее значений? Представленный выше анализ показывает, что к таковым относятся отношения, а стало быть, и свойства, которые всегда редуцируемы к отношениям. И те и другие Рассел обозначает как универсалии, и в качестве выражения последних служат пропозициональные функции. Примитивными значениями будут в таком случае универсалии учитель, ученик, любить, красное и т.д. Соответственно допустимы выражающие их пропозициональные функции ‘учитель (x,y)’, ‘ученик (x,y)’, ‘любит (x,y)’, ‘красное (x)’ и т.д.
Анализ пропозициональных функций, представляющих один из необходимых компонентов высказывания, выводит на дальнейшее исследование. Для образования целостного высказывания функции необходимо дополнить выражениями, занимающими аргументные места, чьим предметным значением являются индивиды. На эту роль могут претендовать те символы, которые указывают на самостоятельные предметы и которые, как и универсалии, известны нам непосредственно. Однако роль такого указания могут выполнять два различных, как считает Рассел, типа символов: собственные имена и описания (дескрипции). Основное различие между ними в том, что понимание собственного имени зависит от непосредственного знакомства с объектом, тогда как описание мы понимаем, зная значение конституент, из которых оно состоит. Примерами первых можно считать то, что в повседневном языке обычно понимается под собственными именами, скажем, ‘Сократ’ или ‘Вальтер Скотт’[74]; примерами вторых – такие выражения, как ‘учитель Платона’, ‘автор Веверлея’ и т.д. Заметим, что различие, проводимое Расселом, отличается от соответствующего подхода Г.Фреге, который и те и другие выражения считал именами, указывающими на один и тот же предмет посредством различного смысла. Рассел стремится избавиться от такой сомнительной сущности, как смысл, которому Фреге придаёт субстанциальное содержание. Поэтому он считает, что непосредственное знакомство с предметом должно отличаться от его описания. Критерием здесь должна служить комплексность описания, поскольку смысл, согласно Расселу, усваивается из комбинации знаков, обладающих примитивным значением, тогда как понимание последних обретается только в непосредственном знакомстве с тем, что они обозначают. Мы понимаем выражения ‘автор Веверлея’ или ‘нынешний король Франции’, даже не имея представления о том человеке, на которого они могут указывать, но значение собственного имени в этом смысле понять нельзя, его можно усвоить только при непосредственном знакомстве. Этот критерий проявляется при рассмотрении определённых контекстов, где собственные имена и дескрипции функционируют по-разному.
В качестве иллюстрации рассмотрим применение этой теории к анализу контекстов существования. Возьмём предложение, где существование комбинируется с собственным именем, например “Сократ существует”. С точки зрения Рассела, это предложение, как и любое подобное ему, является бессмысленным, поскольку функция собственных имён заключается в непосредственном указании или знании через знакомство, а существование полностью выражается квантором. Квантор же применим только к переменной некоторой пропозициональной функции. А так как ‘Сократ’ – это не переменная, а константа, непосредственно указывающая на объект, то значением данного выражения не может являться истина или ложь; оно в буквальном смысле бессмысленно. Действительное имя самим своим фактом уже говорит о существовании предмета, который оно называет. Поэтому в контекстах существования осмысленно могут встречаться только описательные имена. Предложение “Учитель Платона существует”, например, в отличие от приведённого выше, вполне осмысленно, несмотря на то, что они на первый взгляд имеют одинаковую структуру. О чём же говорит последнее предложение? С точки зрения Рассела, в нём утверждаются две вещи: 1) имеется по крайней мере один учитель Платона, 2) имеется не более одного учителя Платона, поскольку при невыполнимости хотя бы одного из этих условий оно было бы ложным. Структура дескрипции, таким образом, включает пропозициональную функцию, где к переменной как раз и применим квантор существования. Символически это выражается следующим образом:
($x)(fx × (y)(fy É x=y))
Теперь сравним приведённый пример с предложением “Сократ – учитель Платона”. Структура этого предложения включает уже три значимых элемента: 1) имеется по крайней мере один учитель Платона, 2) имеется не более одного учителя Платона, 3) этот человек есть не кто иной, как Сократ. Символически:
($x)(fx × (y)(fy É x=y)) × fa
Действительно, отрицая любой из этих трёх элементов мы вынуждены были бы признать ложность целого. Значимые элементы первого предложения полностью совпадают с двумя первыми элементами второго предложения, а значит, второе предложение уже подразумевает первое в том смысле, что предложение “Учитель Платона существует” логически следует из предложения “Сократ – учитель Платона”. Таким образом, использование определённых дескрипций уже предполагает существование соответствующего объекта.
Создавая оригинальную логическую концепцию существования, основанную на анализе терминов, Рассел применяет её к решению ряда проблем, например к проблеме функционирования фиктивных имён (т.е. выражений, которым не соответствует никакой реальный объект, но которые по видимости указывают на таковой), скажем ‘Пегас’, ‘Одиссей’ и т.д. Выражения подобного рода, несмотря на то, что в предложениях они на первый взгляд выполняют функцию имён, очевидно, не являются таковыми, поскольку не указывают ни на какой реальный предмет, т.е. не выполняют функцию знакомства. Согласно Расселу они являются скрытыми дескрипциями, которым обыденное употребление придаёт видимость действительных имён. Как дескрипции, хотя и скрытые, они должны удовлетворять соответствующей структуре. Следовательно, высказывание о несуществующем объекте всегда будет ложным, поскольку в структуру дескрипции включено утверждение о существовании объекта.
Или возьмём в качестве примера выражение “Нынешний король Франции лыс”. Принимая логический закон исключенного третьего, мы должны были бы заключить, что истинно или это высказывание, или высказывание “Нынешний король Франции не лыс”; но и то и другое очевидно неверно, и дело здесь не в смысле выражения ‘нынешний король Франции’. Проблема в самом выражении, которое не является именем, а представляет собой дескрипцию, предполагающую, что её предмет существует. Поскольку это предположение ложно, ложными будут и первое и второе высказывание. В символическом выражении, где первое высказывание записывается как
($x)(fx × (y)(fy É x=y)) × fa,
а второе как
($x)(fx × (y)(fy É x=y)) × ~fa,
это видно непосредственно, поскольку ложным является член логического умножения ‘($x)fx’, выявленный в процессе анализа дескрипции.
Подобный анализ затрагивает не только существование, он применим ко всем контекстам, в которые входят описания. Для иллюстрации обратимся ещё к одному примеру Рассела. Возьмём высказывание “Георг VI хотел знать, является ли Вальтер Скотт автором Веверлея”. Здесь необходимо заметить, что если бы способ функционирования имени и дескрипции совпадал, то всё высказывание преобразовывалось бы в стремление подтвердить частный случай закона тождества, а именно: “Георг VI хотел знать, является ли Вальтер Скотт Вальтером Скоттом”, что очевидно не совпадает с первоначальным утверждением. Вряд ли царственная особа сомневалась во всеобщности логических законов. Если же принять, что два имени различаются по смыслу, то придётся признать, что в высказывании идёт речь о тождественности смысла двух имён и Георга VI интересовала лингвистическая проблема. Последняя точка зрения приемлема для Г.Фреге, который любого человека стремится сделать лингвистом, но не приемлема для Рассела, считающего, что такие сущности, как смыслы, не имеют реального существования. Да и вообще, в таких предложениях, поскольку мы хотим узнать нечто о действительности, речь идёт не о смысле символов. Эти два выражения различны по сути. Рассел считает, что Георг VI хотел знать, совпадает ли значение имени Скотт, с которым он знаком непосредственно, с аргументом, удовлетворяющим функцию, присутствующую в дескрипции. Анализ демонстрирует, что Георг VI не сомневался в законе тождества и не стремился выяснить лингвистический вопрос, но решал реальную познавательную проблему.
Теория дескрипций позволяет иначе, чем Фреге, решить проблему тождества. Когда мы говорим, что “Вечерняя звезда есть Утренняя звезда”, речь, по мнению Рассела, идёт не о равенстве смыслов двух выражений, указывающих на один и тот же объект. На объект могут указывать только имена и ввиду однозначной соотнесённости имени и объекта, устанавливаемой в отношении непосредственного знакомства, два действительных имени не могут указывать на один и тот же объект. При уравнивании выражений речь может идти только о неполных символах, дескрипциях. Так, в “Вечерняя звезда есть Утренняя звезда” устанавливается равенство аргументов, удовлетворяющих функции ‘Вечерняя звезда (x)’ и ‘Утренняя звезда (x)’. В данном случае выражение равенства должно прочитываться так: “Тот x, который удовлетворяет функцию ‘Вечерняя звезда (x)’, удовлетворяет функцию ‘Утренняя звезда (x)’”. В общем случае структура тождества выражений выглядит следующим образом:
(ix) fx = (ix) gx,
где символ ‘(ix)’ прочитывается как ‘тот x, который…’. Анализ дескрипций показывает, что равенство относится не к именам, а к переменным.
Применение теории дескрипций к контекстам существования, косвенного вхождения выражений, тождества, т.е. к тем случаям, которые мотивируют у Г.Фреге введение смысла, показывает, что от него можно избавиться. Необходимость в такой особой сущности, как смысл, исчезает. Логический анализ дескрипций демонстрирует, что многим выражениям естественного языка весьма далеко от той точности, которую требуют предложения науки. То, что на первый взгляд кажется простым, на самом деле является сложным, требующим анализа выражением. Творчество Рассела как раз и определяет стремление построить язык, допускающий полный анализ, вплоть до примитивных символов с примитивными значениями, относительно функционирования которых не возникало бы никаких вопросов.
Пример с теорией дескрипций демонстрирует, что для Рассела логический анализ – это метод редукции к непосредственным данным. Результат в данном случае предопределён принимаемой эпистемологией, в зависимость от которой ставится логическая форма языкового выражения.
1.2.7. Эпистемологическая функция суждения
Итак, редукционная процедура, по мысли Рассела, должна всегда заканчиваться некоторым не редуцируемым остатком, который и будет представлять собой совокупность примитивных значений. Чем является эта совокупность, каждый раз решается по-разному и зависит от логической структуры анализируемого выражения. Как мы видели, проще всего дело обстоит с выражениями, содержащими лишь такие знаки, которые имеют эмпирическое значение. Здесь знание по знакомству в общем согласуется с традиционным английским эмпиризмом. Сложнее решить вопрос со значениями выражений чистой логики, которые, даже имея эмпирическую реализацию, всё-таки не сводятся к эмпирическому содержанию. Решению последнего вопроса служит разрабатываемая Расселом теория истины, объясняющая не только априорный характер положений логики, но и возможность перехода от знания знакомства к знанию по описанию. В данном случае теоретико-познавательные предпосылки имеют ещё больший смысл, поскольку истина является ведущей темой логики. Для Рассела обоснованная теория логики равнозначна обоснованной теории истины. Если же учесть, что пропозициональная функция есть предметно-истинностная функция, где элемент ‘предметно’ объясняется с помощью теории определённых дескрипций, то остаётся вопрос о том, как конституируется истинностное значение.
Когерентная теория истины, практикуемая неогегельянцами, не подходит для решения поставленной задачи. Непосредственное усмотрение истины как свойства абсолюта, предлагаемое, например, Брэдли, предполагает, что в основании суждений (т.е. знания по описанию) также лежит отношение знакомства, правда, имеющее характер интеллектуального созерцания. В условиях принимаемого Расселом онтологического базиса (плюрализм и внешние отношения) теория такого типа не в состоянии объяснить возможность лжи, поскольку непосредственное отношение к объекту лишено ошибки. Разрабатываемая им корреспондентская теория истины должна удовлетворять следующим принципам: «I. Наша теория истины должна допускать её противоположность ошибку; II. Кажется совершенно очевидным, что если бы не было убеждений, то не могло бы быть ни лжи, ни истины в том смысле, в котором истина коррелятивна лжи. Истина и ложь – свойства убеждений и утверждений; и поэтому чисто материальный мир, так как он не содержит ни убеждений, ни утверждений, не может включать в себя ни истины, ни лжи; III. Истинность и ложность убеждения зависит всегда от того, что лежит вне самого убеждения, хотя истинность и ложность – свойство убеждения, но эти свойства зависят от отношения убеждения к другим вещам, а не от какого-то внутреннего качества убеждения»[75].
По мысли Рассела, отношение убеждения к реальности совершенно иное, нежели отношение непосредственного знакомства, хотя последнее и лежит в основании первого. Это связано прежде всего с тем, что убеждение в отношении одних и тех же элементов конституирует два истинностных значения, а именно ‘истина’ и ‘ложь’, что было бы невозможно, если бы убеждение было непосредственным отношением к реальности, как считали неогегельянцы, связывая истину и ложь с интеллектуальным созерцанием. Любое созерцание, как непосредственное отношение познающего разума к познаваемому, при объяснении возможности лжи придаёт последней объективный характер предмета, данного в созерцании, чего не учитывают представители абсолютного идеализма. Субстанциальность лжи кажется ещё менее вероятной, чем субстанциальность истины. С точки зрения Рассела, «отношение, устанавливаемое суждением или убеждением, должно, если мы хотим найти место и для лжи, происходит между большим количеством терминов, чем два. Когда Отелло убеждён, что Дездемона любит Кассио, то перед нами не единый предмет, ‘любовь Дездемоны к Кассио’ или ‘что Дездемона любит Кассио’, ибо это устанавливало бы возможность объективной лжи, существующей независимо от всякой мысли. И легче принять во внимание возможность лжи, если мы признаем суждение отношением, в котором принимают участие как сознание, так и ряд предметов; этим я хочу сказать, что и Дездемона, и любовь, и Кассио, всё это должно быть терминами отношения, существующего, когда Отелло убеждён, что Дездемона любит Кассио. И таким образом, это отношение – отношение четырёх терминов, ибо и Отелло является одним из терминов отношения»[76].
Всё дело в том, что помимо предметов, данных посредством знакомства, в процедуре суждения участвует ещё и познающий разум, образующий субъективную сторону суждения. Деятельность субъекта сводится к процедуре упорядочивания конституент, расположение которых может соответствовать или же не соответствовать их порядку в объективном факте. Именно возможность упорядочивания образует основание возможности истинности и ложности. «Если убеждение истинно, то существует ещё одно сложное единство, в котором отношение, бывшее одним из объектов убеждения, соотносит остальные объекты. Таким образом, если Отелло истинно убеждён, что Дездемона любит Кассио, то существует сложное единство ‘Любовь Дездемоны к Кассио’, состоящее исключительно из объектов убеждения, в том же порядке, в котором они были и в убеждении, и отношение, которое было раньше одним из объектов, теперь выступает в роли цемента, связывающего воедино остальные объекты убеждения. С другой стороны, если убеждение ложно, то нет этого сложного единства, состоящего лишь из объектов убеждения. Если Отелло ложно убеждён в том, что Дездемона любит Кассио, то нет тогда сложного единства ‘Любви Дездемоны к Кассио’. Таким образом, убеждение истинно, если оно соответствует определённому сложному комплексу, и ложно, если оно ему не соответствует. Предположим для простоты, что предметом убеждения являются два термина и одно отношение и что эти термины расположены в определённом порядке ‘смыслом’ отношения, мы получим истинное убеждение в том случае, если два термина в этом порядке объединяются отношением в сложное целое; в противном случае наше убеждение – ложное. Это устанавливает определение истины и лжи, которое мы искали. Суждение или убеждение – сложное единство, в которое входит сознание в качестве одной из составных частей; если остальные составные части, взятые в том порядке, в котором они состоят в убеждении, образуют сложное единство, то тогда убеждение истинно, если же нет, оно – ложное»[77]. Порядок конституент убеждения образует его логическую форму; именно посредством последней познающий разум связан с действительностью, именно за счёт неё осуществляется корреспондентная связь суждения и факта.
1.2.8. Логические объекты
Из предыдущего вытекает серьёзная проблема, связанная с характером самой логической формы. Структуру суждения Рассел сводит исключительно к совокупности непосредственно известных конституент и упорядочивающей деятельности познающего разума, но где тогда находит своё место логическая форма? Если бы она была связана только с деятельностью познающего разума, то следовало бы признать, что структура суждения, а значит, и структура соответствующего ему факта зависит исключительно от субъективных условий протекания процессов мышления. Рассел отказывается принять последнее, поскольку в этом случае логика утрачивала бы притязание на универсальность и всеобщность своих положений. Но если признать, что логическая форма имеет объективный характер, тогда её следует рассматривать как одну из конституент убеждения, известную через отношение непосредственного знакомства. Здесь как раз и возникает представление о том, что логическая форма является специфическим объектом и должна рассматриваться в качестве примитивного значения особого типа.
Общие положения теории знания-знакомства конкретизируется Расселом в отношении логической формы в одной из работ по теории познания, которая, правда, после критики Витгенштейна так и осталась неопубликованной и лишь недавно увидела свет. В ней, сохраняя фундаментальное различие двух типов знания, Рассел даёт классификацию различных видов знакомства. В частности, он пишет: «Первая классификация согласуется с логическим характером объекта, а именно, согласно тому, является ли он (а) индивидом, (в) универсалией или (с) формальным объектом, т.е. чисто логическим»[78]. Формальный или логический объект, выступающий в качестве конституенты высказывания, как раз и представляет собой логическую форму, знакомство с которой для конструкции суждения, если его истинностное значение должно иметь объективный характер, столь же необходимо, как и знакомство с иными типами примитивных значений. Выражение “Дездемона любит Кассио”, помимо конституент ‘Дездемона’, ‘любит’ и ‘Кассио’, должно содержать ещё и возможность упорядочивания их особым образом, которая не сводится ни к одной из приведённых конституент и может быть выражена в чистом виде как ‘xRy’ (где R - символ для отношения, а x и y - аргументные места, на которые можно подставить его члены).
Рассмотрение логической формы в качестве особой конституенты позволяет решить проблему понимания описаний, объективный коррелят которых нам неизвестен, т.е. в отсутствие сведений о факте, который подтверждал бы или опровергал их истинность. Вполне достаточно непосредственного знакомства с конституентами, чтобы решить вопрос о возможности их комбинации определённым способом. «Если мы знакомы с а с подобием и с b, мы можем понять утверждение “а подобно b”, даже если мы не можем непосредственно сравнить их и ‘увидеть их подобие’. Но это не было бы возможно, если бы мы не знали, как они должны быть сопоставлены, т.е., если бы мы не были знакомы с формой двухместного комплекса. Таким образом, всякий ‘ментальный синтез’, как он может быть назван, затрагивает знакомство с логической формой»[79]. Символическое выражение суждения представляет собой комплексный знак, состоящий из простых конституент, имеющих примитивное значение, в качестве которых выступают: во-первых, имена собственные; во-вторых, знаки отношений и свойств; в-третьих, формы. Предложение “Дездемона любит Кассио” представляет собой комплекс [a, b, R, xRy], где ‘a’ соответствует Дездемоне, ‘b’ – Кассио, ‘R’ – отношению любить, а ‘xRy’ – логической форме, упорядочивающей элементы отношения. Таким образом, предложение – это комплекс (или класс) плюс порядок. Правда, здесь возникает одна проблема. Выражения ‘aRb’ и ‘bRa’ имеют одну и ту же логическую форму xRy, но могут иметь различные значения истинности. Так, с точки зрения приводимого примера первое выражение ложно, тогда как второе – истинно. Следовательно, помимо знакомства с перечисленными конституентами, необходимо что-то ещё, что конституировало бы различия в самом порядке используемой формы. Рассел считает, что ‘aRb’ и ‘bRa’ отличаются ещё и тем, что в первом случае мы посредством R переходим от a к b, а во втором от b к a. Различие в переходе он называет смыслом отношения R. Здесь можно указать на возникающее затруднение, поскольку в самой форме xRy этот смысл не содержится, а знакомство с отношением R как эмпирическое действие не допускает наличия такой сущности, как смысл, от которой Рассел отказывается, критикуя, в частности, Фреге. Такое понимание отношения, по-видимому, допускает определённую психологизацию, так как зависит от субъективных условий определения порядка отношения.
Однако сама возможность сопоставления объектов познающим разумом мотивирует необходимость принятия такой особой сущности как логическая форма, даже несмотря на то, что её анализ сугубо логическими средствами может быть различным и даже неправильным. Рассел пишет по этому поводу: «Совершенно неясно, что представляет собой правильное логическое рассмотрение формы, но чем бы ни было это рассмотрение, ясно, что мы знакомы (возможно, в расширительном смысле слова ‘знакомство’) с чем-то столь абстрактным, как чистая форма, поскольку иначе мы не могли бы осмысленно использовать такое слово, как ‘отношение’»[80]. В этом смысле логический анализ зависит от эпистемологического интереса, поскольку определение предметного содержания формальной логики связано с выявлением особого типа логических объектов. Этот же эпистемологический интерес позволяет Расселу обосновать априорный характер логики. Логика невыводима из эмпирических данных, поскольку оперирует объектами иной природы, с которыми познающий разум знаком непосредственно.
Руководствуясь потребностями теории познания, Рассел указывает на несводимость простых высказываний к эмпирическим данным, допуская знакомство с их логической формой. Аналогичная ситуация возникает и относительно сложных высказываний, в которых упорядочиваются уже не эмпирические данные, но логические формы простых высказываний. Возможность сопоставления последних требует принятия ещё одного типа логических объектов, также данных в отношении непосредственного знакомства и характеризующих структуру сложных высказываний, определяя их понимание. Как пишет Рассел, «помимо форм атомарных комплексов существует много других логических объектов, которые вовлечены в образование неатомарных комплексов. Такие слова, как или, не, все, некоторые, явно затрагивают логические понятия; и поскольку мы можем осмысленно использовать эти слова, мы должны быть знакомы с соответствующими логическими объектами»[81]. Например, высказывание “Дездемона любит Отелло и не любит Кассио” включает логические союзы, соответствующие логическому умножению и отрицанию, характеризующие отношения между атомарными комплексами. Если атомарные комплексы обозначить как ‘p’ и ‘q’, то форма данного молекулярного комплекса будет выглядеть как ‘p × ~q’. С точки зрения Рассела, логическим союзам также должны соответствовать примитивные значения, логические объекты.
Введение логических объектов расширяет онтологическую основу формальной логики, которая становится знанием об особом типе предметов. И в этом отношении, несмотря на специфический характер предметной области, логика представляет собой науку, подобную всем другим наукам. Дело философии вписать её в доктринальные рамки научного знания. Ясно, что для Рассела этот процесс существенно зависит от принимаемой им онтологической концепции, которая придаёт положениям логики субстанциальный характер, и теоретико-познавательных предпосылок, заставляющих рассматривать содержание формальной системы в перспективе действительного мира. Принимая в расчёт сказанное выше, существенной корректировки требует следующее утверждение Рассела: «Философию, сторонником которой я являюсь, можно назвать логическим атомизмом или абсолютным плюрализмом, поскольку, утверждая, что существует много вещей, она вместе с тем отрицает существование целого, состоящего из этих вещей. Таким образом, философские высказывания касаются не совокупности вещей в целом, но каждой вещи в отдельности; и они должны затрагивать не только каждую вещь, но такие свойства всех вещей, которые не зависят от их случайной природы и от счастливой случайности существования, но которые истинны в любом возможном мире, независимо от тех фактов, которые можно обнаружить только при помощи наших органов чувств»[82]. В условиях, когда моделирующие отношения структур описания, на экспликацию которых претендует формальная логика, ставятся в зависимость от онтологических и теоретико-познавательных предпосылок, буквальное понимание приведённого утверждения было бы неверным; наоборот, специфика взглядов Рассела требует учитывать и совокупность рассматриваемых вещей, и специфическую природу и иерархическую структуру примитивных значений, и зависимость анализа выражения от действительного существования предмета описания.
2. ГЕНЕЗИС: ОТ ЗАМЕТОК К ТРАКТАТУ
Проследить генезис оригинальной концепции Л.Витгенштейна позволяет ряд материалов, предшествующих по времени созданию Логико-философского трактата. Основное значение здесь имеют две работы: Заметки по логике и Заметки, продиктованные Дж.Э.Муру. Созданные ad hoc, они тем не менее представляют собой целостные тексты и, несмотря на отсутствие должной систематичности, выражают ряд получивших концептуальную оформленность идей. Заметки Витгенштейна относятся к тем произведениям, которые хочется оценить как высокую философскую литературу, но не позволяет жанр, требующий проводить их по разряду подготовительных материалов. И всё же к Заметкам следует относиться как к зрелым работам, в которых выражена, может быть и не вполне ясно, целостная конструкция. Некоторые идеи здесь уже настолько сложились, что яснее не будут выражены Витгенштейном никогда. Содержание ЛФТ подразумевает Заметки, не поняв которые нельзя до конца оценить ряд положений основного произведения. Последнее замечание особенно касается критики концепций Г.Фреге и Б.Рассела. Ведь именно на их фоне философия логики раннего Витгенштейна конституировалась как своеобразная система. Несмотря на серьёзные различия, идеи Г.Фреге и Б.Рассела базируются на ряде допущений, выявление и критика которых как раз и составили основной предмет Заметок. Кроме того, критические замечания результируются в ряде позитивных положений, которые нашли своё полное выражение в ЛФТ. Ряд найденных решений имеет, правда, предварительный характер и значительно отличается от того, что будет выражено позже. Но именно эти предварительные решения дают прекрасную экспозицию движения мысли и позволяют оценить, какой путь из многообразия возможных был выбран.
2.1. “Заметки по логике”
Заметки по логике относятся ко времени обучения Витгенштейна в Кембридже. Датированные сентябрём 1913 года, они были подготовлены по просьбе Бертрана Рассела[83]. Характер записей говорит о том, что они не строились по заранее обдуманному плану, а представляют собой неупорядоченный набор тезисов, где последующий зачастую не связан с предыдущим, что хотя и вполне соответствует стилю остальных заметок Витгенштейна, в данном случае скорее напоминает список ответов на поставленные вопросы. Заметки по логике сохранились только в английской версии и, видимо, отражают переводческие усилия Рассела, степень участия которого в их создании не вполне ясна[84]. Для адекватного понимания данного текста необходимо учитывать и то, что в нём в основном используется терминология Рассела, что может свидетельствовать как о том, что Витгенштейн ещё не разработал своего оригинального аппарата, которому он следует в ЛФТ так и о том, что переводчик использовал знакомый терминологический ряд.
Заметки по логике проливают свет на природу проблем, с которых начинал Витгенштейн и решение которых привело его к созданию оригинальной версии философии логики. О важности достижений этого периода говорит то, что приблизительно половина фрагментов этих заметок в той или иной степени была включена в окончательную версию ЛФТ, хотя и не всегда в той же самой связи. Основная часть Заметок посвящена разработке теории истинностных функций, которые рассматриваются с точки зрения разрабатываемой новой системы обозначения (ab-записи). Кроме теории истинностных функций, значительное место уделяется новой трактовке предикатов. Ещё одна важная черта – указание на исключительность проблем, связанных с пониманием мнимых переменных и зависящей от этого трактовкой логических предложений, как стоящих под знаком всеобщности. В понимании предмета философии логики (дескриптивный анализ неопределяемых) взгляды Витгенштейна здесь вполне согласуются со взглядами Рассела, который говорит об «исследовании неопределяемых, образующем главную часть философской логики»[85]. Однако способ анализа неопределяемых приводит к изменению трактовки сущности предложения, что лежит в основании развёрнутой критики концепций Рассела и Фреге.
Учитывая характер создания Заметок по логике, дать последовательную экспозицию их содержания совсем непросто. Записи, послужившие основой этих заметок, велись в течение определённого времени и отражают последовательное движение мысли Витгенштейна. Многие из них, возможно хронологически предшествующие, находят своё объяснение только с точки зрения общего видения задачи, сформулированной позже. Однако и те и другие равноправно присутствуют в тексте, который тематически неупорядочен. Таким образом, понимание этой работы как единой существенно зависит от расстановки приоритетов и не обязательно связано с последовательностью действительной постановки вопросов. Проследить генезис проблематики, которая найдёт своё предварительное решение в Заметках по логике, позволяет переписка Витгенштейна с Расселом на протяжении 1912-1913 годов. Характеризуя свои занятия, в одном из первых писем Витгенштейн сообщает: «Логика всё ещё находится в точке плавления, но одна вещь становится мне всё более и более ясной: Предложения логики содержат ТОЛЬКО мнимые переменные и каким бы не оказалось объяснение мнимых переменных, его следствием должно быть то, что НЕ существует логических констант. Логика должна оказаться наукой совершенно иного типа, чем все другие науки»[86].
Таким образом, в фокусе оказываются две проблемы: во-первых, исследование специфики логических законов; во-вторых, выяснение природы логических констант. Вторая проблема зависит от решения первой, которая хотя и опознана как проблема, но всё ещё далека от решения. Витгенштейн отчётливо осознаёт, что предложения логики отличаются от предложений всех других наук, а логика не является наукой, подобной всем прочим наукам. Видимо, это осознание и связывает первую проблему со второй. Действительно, раз предложения логики отличаются от предложений прочих наук, значит, должны отличаться и содержащиеся в них константы. Интуиция приводит Витгенштейна к тому, что если константам естественных наук нечто и соответствует в действительности, то логическим константам, типа Ú, É, ~, не соответствует ничего. Подобная тематизация исследования очевидно отличается от подхода как Рассела, так и Фреге, для которых предложения логики являются универсальными истинами и отличаются от законов других наук только тем, что относятся не к специфике мышления в рамках какой-то отдельной предметной области, а к специфике мышления вообще[87]. Совершенно иначе ставит вопрос Витгенштейн.
Специфика логического исследования должна показать, что логические законы не являются каким-либо обобщением законов прочих наук и, следовательно, требуют иного подхода и иной трактовки выражений, с помощью которых они построены. В частности, объяснение предложений логики должно привести к отмене логических констант. Однако, несмотря на то, что связь указанных проблем здесь просматривается, ход мысли остаётся достаточно непрозрачным. Можно лишь констатировать, что в последующем первая проблема отходит на задний план, а проблема логических констант занимает доминирующее положение. Витгенштейн пишет Расселу: «В данный момент больше всего меня занимает не проблема с мнимыми переменными, но скорее значение ‘Ú’, ‘É’и т.д. Эта последняя проблема – я думаю – до сих пор является наиболее фундаментальной и, если возможно, всё же наименее опознанной как проблема» (ПР, С.147). Можно лишь предполагать, что взаимосвязь проблем осознаётся в обратном порядке, и размышление над логическими константами должно привести к выяснению специфики логических законов. Но это остаётся в сфере догадок.
Если обратиться к продолжению того же письма видно, что Витгенштейна более всего занимает проблема значения логических констант, которую он пытается решить с точки зрения расселовского подхода к предложениям типа ‘pÚq’ как к комплексам и находит данную идею весьма сомнительной. Напомним, что в то время Рассел рассматривал значения логических констант как своеобразные объекты, данные в отношении непосредственного знакомства, а молекулярные предложения, в которых они встречаются, как комплексные имена, которым соответствуют комплексные объекты. Такой подход предполагал, что предложения с логическими операторами находят адеквацию в действительности, отличающуюся от адеквации атомарных предложений, поскольку первые включают нечто такое, что отсутствует в последних. Здесь для Витгенштейна как раз и возникает проблема.
Он отказывается признать существование логических объектов, но продолжает рассматривать предложение в расселовском ключе как комплексное имя, трактуя логические операторы как связи, имеющие особый характер и относящиеся к связываем объектам специфическим образом. В конце концов Витгенштейн приходит к выводу о неадекватности подхода к молекулярным предложениям как к комплексам, отражающим специфические связи объектов. Он снова пишет Расселу: «Теперь, относительно ‘рÚq’ и т.п.: Я обдумывал эту возможность – а именно, что все наши затруднения можно преодолеть допущением различных видов отношений знаков к вещам – снова, снова и снова! в течениt последних восьми недель!!! Но я пришёл к заключению, что это допущение нисколько нам не поможет... оно даже не соприкасается с нашей проблемой» (ПР, С.148).
Итак, попытка выяснить, каким образом приобретают значение логические константы, приводит Витгенштейна к анализу отношения различных знаков к обозначаемым вещам. Теперь проблема ставится гораздо шире. По-видимому, под ‘различными видами отношений знаков к вещам’ здесь подразумеваются различие в способах символизации молекулярных и атомарных предложений. Трактуя предложения с логическими операторами как комплексы, Рассел лишь распространил на них точку зрения, разработанную им относительно атомарных предложений. Следовательно, ревизия способов обозначения молекулярных предложений должна быть доведена до атомарных, и даже более того, до выяснения сущности обозначения предложений вообще. Поскольку молекулярные предложения в каком-то смысле производны от атомарных, постольку решение проблемы способов обозначения последних должно иметь определяющий характер. Это мнение Витгенштейн как раз и сообщает Расселу в следующем письме: «Я думаю, что наши проблемы можно проследить до атомарных предложений. Вы увидите это, если попытаетесь точно объяснить, каким образом в таких предложениях связка имеет значение. Я не могу этого объяснить и думаю, что коль скоро на этот вопрос будет дан точный ответ, проблема с ‘Ú’ и мнимыми переменными, если и не будет решена, то будет близка к решению» (ПР, С.148).
Говоря о связке, Витгенштейн, видимо, подразумевает символы свойств и отношений, связывающие имена отдельных объектов. Основная новация здесь – это осознание того, что символы свойств и отношений должны обозначать способом, совершенно отличным от того, как обозначают собственные имена. Исследование специфики обозначения атомарных комплексов приводит к пересмотру общей теории предложений как класса имён. Выяснение специфики обозначения различных элементов атомарного предложения должно решить те общие вопросы, которые касаются специфики функционирования логических констант и природы логических предложений. На этом пути Витгенштейн достигает наиболее значительных результатов, создавая собственную теорию значения, несущую большой критический заряд относительно концепций Фреге и Рассела и лежащую в основании его собственной философии логики. Анализ изобразительных особенностей знаков различного вида приводит к изменению трактовки атомарных предложений, что следствием имеет изменение понимания предложений вообще, и в этом особую роль также должно сыграть новое понимание специфики знаков свойств и отношений. Решению последней задачи должна способствовать правильная теория символизма. Как следствие, такой анализ приводит к ревизии онтологических допущений, связанных с теорией типов.
Генезис идей, прослеживаемый в письмах, позволяет реконструировать концептуальное ядро Заметок по логике, которое видится следующим образом. Во-первых, выяснение символических особенностей различных знаковых изображений – особенно предикатов (т.е. символов свойств и отношений) – должно лежать в основании нового понимания атомарных предложений. Во-вторых, это должно привести к изменению трактовки молекулярных предложений, и в частности к отмене логических констант. В-третьих, необходимо иначе истолковать старую или разработать новую формальную запись, адекватно отражающую суть происходящих изменений. В-четвёртых, должна измениться трактовка логических законов. Решение этих задач ведёт к последовательной ревизии онтологических и эпистемологических допущений, лежащих в основании систем Фреге и Рассела, в результате которой может возникнуть новое понимание логики как науки.
Совокупность поставленных задач реализуется Витгенштейном в рамках общей проблемы, относящейся к прояснению характера неопределяемых логики. Важность учения о неопределяемых связана со спецификой формального анализа. Логика отвлекается от смысла и значения языковых выражений, поэтому в логике не играют роли ни отношение конкретного имени к своему значению, ни связь конкретного предложения с реальностью. Однако формальный анализ всё же предполагает, что имя как таковое должно иметь значение, а предложения – смысл. При отвлечении от содержания языковых выражений в той или иной степени должна сохраняться интенция значения, поскольку хотя логику не интересует конкретное значение языковых выражений, знаковый анализ должен сохранять существенные характеристики того, что служит предметом исследования. Анализ предложений или имён основывается на их специфических свойствах, которые предопределяют различие в результате. Поэтому замена действительных предложений и имён знаковыми изображениями должна основываться на том, как понимается данный символ.
С точки зрения Фреге и Рассела, логика, создавая знаковый язык как вспомогательное средство анализа способов выражения мысли, должна сохранять существенные черты этих способов. В противном случае нельзя было бы сказать, что выявляются свойства именно этих средств выражения. Как у Рассела, так и у Фреге конструкция знакового языка логики включает два момента. Во-первых, необходимо зафиксировать алфавит, образующий совокупность базовых символов логического языка. Во-вторых, указываются правила образования различных выражений из исходных символов. Таким образом, все выражения логики делятся на простые и комплексные. Например, комплексное выражение ‘рÚ~q’ построено из простых знаков ‘р’, ‘Ú’, ‘~’, ‘q’, а комплескное выражение ‘aRb’ – из ‘a’, ‘R’ и ‘b’. Правила конструирования однозначно задают понимание сложных выражений, если задано значение примитивных знаков. Но как задать значение примитивных знаков? Дело осложняется тем, что примитивные знаки могут входить в сложные выражения в разной связи, однако должно сохраняться их единообразное понимание. Таким образом, введение исходных знаков должно предусматривать многообразие их использования.
Здесь возникает первое затруднение. Можно ли определить знак так, чтобы предусмотреть возможность бесконечно разных его употреблений? Вероятно, часть знаков можно попытаться определить. Но сама возможность определения указывала бы на то, что эти знаки лишь по видимости являются примитивными, поскольку определить можно лишь то, что является комплексным. Если же пытаться все знаки определить друг через друга, то в результате такой перекрёстной определимости значение знака никогда не было бы достигнуто, поскольку рано или поздно возникнет круг в определении. Кроме того, взаимная определимость того, что считается примитивным знаком, всегда чревата проблемами, которые возникли в системе Фреге в связи с взаимоопределимостью функции и аргумента. Отсюда вытекает, что в знаковом языке логики должны быть такие символы, значение которых вводится непосредственно, именно они, с точки зрения Рассела, являются неопределяемыми или ‘примитивными идеями’ логики. Поскольку аппарат логики включает два типа символов, несущих различную смысловую нагрузку, а именно логические операторы, характеризующие универсальные способы связи (например: ‘Ú,’ ‘~’, ‘$’), и дескриптивные знаки, указывающие на переменные содержания (например: ‘a’, ‘b’, ‘R’, ‘p’), постольку необходимо указывать два вида неопределяемых.
Несмотря на то, что ряд логических операторов определимы друг через друга, по указанным выше соображениям некоторые из них необходимо ввести как логические константы. Фреге, например, в качестве таковых иногда рассматривает условную связь и отрицание, иногда логическое умножение и отрицание. Рассел предпочитает логическое сложение и отрицание. В качестве значения логических констант рассматриваются особые функции, как у Фреге, или особые логические объекты, данные в отношении непосредственного знакомства, как у Рассела. К числу примитивных идей (а стало быть, неопределяемых) относятся также символы и значения дескриптивных компонент логического языка. Рассел, например, неопределяемыми считает понятия имени, предложения, индивида, отношения, комплекса, как примитивные рассматриваются и соответствующие им символы.
Необходимо отметить, что два вида неопределяемых при трактовке существенно зависят друг от друга. У Фреге и Рассела, например, очевидна связь между функциональным пониманием логических констант и трактовкой предложений как имён, поскольку утверждение, что логически операторы обозначают свойства и отношения, неотделимо от утверждения, что предложения являются именами объектов, так как отношения и свойства бывают только у объектов. Поэтому изменение понимания неопределяемых одного вида необходимо приводит к изменению понимания неопределяемых другого вида.
Основной мотив в исследовании неопределяемых связан у Витгенштейна с выяснением сущности предложения и пересмотром допущений, лежащих в основании философии логики Фреге и Рассела. Критической оценке подвергается, во-первых, теория логических констант и логических объектов, в основании которой лежит убеждение в том, что логика не является наукой об особом классе предметов. Во-вторых, правильное объяснение неопределяемых, основанное на корректной трактовке символических особенностей знаковых изображений, должно привести к пересмотру теории типов, которую в одном из писем к Расселу Витгенштейн называет “чудовищной” (ПР, С.150).
Согласно переписке к пересмотру теории предложений Витгенштейна привели размышления над тем, каким образом в атомарных предложениях приобретает значение связка. Под атомарными предложениями в данном случае понимаются выражения типа ‘fa’ и ‘aRb’. В этих предложениях ‘a’ и ‘b’ относятся к разряду неопределяемых имён и получают значение, непосредственно репрезентируя объекты. Естественно было бы предположить, что ‘f’ и ‘R’ также являются неопределяемыми, непосредственно репрезентируя свойства и отношения. Такому пониманию способствует сам язык, поскольку в символах ‘f’ и ‘R’ нет ничего такого, что указывало бы на то, что их символическая нагрузка принципиально отличается от символической нагрузки ‘a’ и ‘b’. Этим путём идёт, например, Рассел, представляющий каждый факт как пространственный комплекс, поскольку «идея, что предложения являются именами комплексов, предполагает, что всё, что не является именем собственным, является знаком для отношения. Потому что пространственные комплексы состоят только из Вещей и Отношений, а идея комплекса взята из пространства» (ЗЛ, С.115(7)). Однако атомарные предложения не являются простой совокупностью конституент. Рассматривая теорию Рассела, мы уже указывали, что предложение от простого класса имён отличает порядок, регулируемый логической формой. Порядок имён устанавливается в акте суждения, которое в зависимости от порядка объектов (т.е. от того, переходим ли мы посредством R от а к b или от b к а) в соответствующем комплексе является истинным или ложным. Таким образом, акт суждения непосредственно включён в конструкцию предложения, являясь тем цементом, который скрепляет конструкцию в единое целое. В данном случае роль ‘f’ и ‘R’ в предложении ничем не отличается от роли ‘a’ и ‘b’. Первые суть такие же конституенты, как и вторые. Стало быть, им соответствуют такие же объекты, как и именам, правда, с точки зрения Рассела относящиеся к другому типу.
Совершенно иной взгляд разрабатывает Витгенштейн. В одном из писем, непосредственно предшествующих созданию Заметок по логике, он сообщает Расселу: «Я изменил свою точку зрения на “атомарные” комплексы. Я теперь думаю, что качества, отношения (такие, как любовь) и т.д. все являются связками! Это подразумевает, например, что я с помощью анализа привожу субъектно-предикатное предложение, скажем, “Сократ - человек” к ‘Сократ’ и ‘нечто является человеком’ (которое, я думаю, не является комплексом). Причина этому весьма фундаментальна: Я думаю, что не может быть различных типов вещей! Другими словами, всё, что можно символизировать простым собственным именем, должно принадлежать к одному типу» (ПР, С.150). Здесь Витгенштейн недвусмысленно высказывается в пользу того, что собственные имена отличаются от символов отношений. Имена действительно репрезентируют обозначаемый ими объект. Но со знаками свойств и отношений дело обстоит иначе. Здесь возникает первая проблема. Раз свойства и отношения не репрезентируют свой объект непосредственно, значит, они не являются неопределяемыми в расселовском смысле. Их значение устанавливается каким-то иным способом. Но каким? Тесно с первой связана и вторая проблема. Если символы свойств и отношений не являются неопределяемыми, существуют ли какие-то другие неопределяемые помимо имён объектов? И если да, то какие?
На первую часть второго вопроса Витгенштейн отвечает совершенно недвусмысленно. Он говорит: «Мы должны быть в состоянии понять предложение, которое ранее никогда не слышали. Но каждое предложение является новым символом. Следовательно, нам необходимо иметь общие неопределяемые символы; это неизбежно, если не все предложения не определяемы» (ЗЛ, С.121(1)). Действительно, предложения не могут состоять только из имён, они не являются классами имён, если под именами понимать только собственные имена. В противном случае мы не могли бы рассматривать предложения как истинные или ложные. Таким образом, помимо ‘частных’ неопределяемых, которые представляют собой собственные имена, должно быть ещё нечто такое, что соответствует той роли, которую выполняют у Рассела символы свойств и отношений. То, что такой элемент должен быть, показывает простое рассуждение о том, как понимается предложение включающее свойство или отношение. Возьмём предложение “Кассио любит Дездемону”. Здесь присутствуют собственные имена ‘Кассио’ и ‘Дездемона’. Предположим, что их значение известно нам непосредственно. Но для понимания всего предложения нам должно быть известно и значение ‘любит’. Однако любая попытка определения в данном случае будет приводить к бесконечному регрессу. Можно, конечно, попытаться определить ‘любит’, говоря, что этот символ соответствует ‘испытывает такие-то и такие-то чувства’, но ‘такие-то и такие-то’, в свою очередь, опять потребует определения, и так далее, до бесконечности. Для того чтобы этого избежать, помимо имён, необходимо принять и другие неопределяемые.
Общие неопределяемые необходимы, их правильное рассмотрение должно сделать ясным природу взаимосвязей, рассматриваемых при формальном анализе. Как говорит Витгенштейн, «только учение об общих неопределяемых позволит нам понять природу функций. Пренебрежение этим учением заведёт нас в непроницаемые дебри» (ЗЛ, С.131(1)). В таких дебрях оказался, например, Фреге, поскольку его трактовка функции и аргумента как относящихся к одному и тому же уровню неопределяемых привёла к формулировке парадокса. Рассел попытался преодолеть парадокс с помощью теории типов, которая, по существу, сводится к явной фиксации типа значения того или иного неопределяемого знака и к запрету использовать символы с различным типом значения на одном и том же уровне, что, с точки зрения его ученика, нисколько не способствовало выходу на торную дорогу, поскольку, как сообщает Витгенштейн в письме к Расселу, «от всяких теорий типов нужно избавится с помощью теории символизма, показывающей, что то, что, по всей видимости, является различными видами вещей, символизируется различными видами символов, из которых один, вероятно, не может быть подставлен на место другого» (ПР, С.149). Последнее вытекает из общей идеи, что не может быть различных типов вещей, соответствующих различным типам знаков. Всё дело в том, что знаки символизируют по-разному. Правильная оценка их символических особенностей позволит распознать действительную структуру предложения, которая скрыта языком, применяемым обычно, где предикаты выглядят как имена.
Что же, с точки зрения Витгенштейна, является в предложении неопределяемым? На решение вопроса указывает уже теория Рассела, который в структуру предложения, понимаемого как комплексное имя, помимо имён объектов, свойств и отношений, включал логическую форму. Если свойства и отношения исключить из этого списка, то ответ предопределён: «Неопределяемые бывают двух видов: имена и формы» (ЗЛ, 119(7)). Правда, пересмотр того, что является неопределяемым, требует пересмотра того, в каком смысле имена и формы являются неопределяемыми составными частями предложения. Вспомним, что для Рассела форма является таким же объектом, как значения собственных имён и предикатов (т.е. имён свойств и отношений). Отрицая существование логических констант и, следовательно, логических объектов, Витгенштейн вряд ли может принять точку зрения Рассела. Функция формы должна быть совершенно иной, соответственно иной, чем репрезентация объекта, должна быть и функция символа формы. Кроме того, если свойства, отношения и формы не являются объектами, то принципиально по-иному должна рассматриваться роль суждения. Изменение трактовки неопределяемых тесно связано с пересмотром расселовской теории суждения. Реализуя критические усилия относительно последней, Витгенштейн как раз и приходит к пониманию того, каким образом функционирует форма предложения и приобретают значение знаки типа ‘f’ и ‘R’.
Высказывая своё несогласие, в одном из писем к Расселу Витгенштейн говорит: «Сейчас я могу выразить своё возражение против вашей теории суждения точно: Я думаю, очевидно, что из предложения “А судит, что (скажем) а находится в отношении R к b”, если оно корректно проанализировано, должно непосредственно следовать предложение “aRbÚ~aRb” без использования каких-либо других предпосылок. Это условие не выполняется вашей теорией» (ПР, С.149). Согласно теории Рассела возможность подобного вывода зависит как минимум от двух предпосылок. Во-первых, поскольку конституирование истины и лжи связано с двумя различными актами, каждый из членов дизъюнкции предполагает свой особый акт суждения, в одном из которых выполнялся, а в другом бы нарушался смысл отношения, заданный логической формой двухместного комплекса ‘xRy’. Во-вторых, возможность конструирования предложения ‘aRbÚ~aRb’ зависит от знакомства с логической формой молекулярного комплекса ‘pÚ~p’, а также от знакомства с логическими объектами, которые соответствуют логическим константам ‘Ú’ и ‘~’. Кроме того, поскольку Рассел понимает двухместные логические союзы по аналогии с отношениями между предметами, установление истинности самого предложения ‘aRbÚ~aRb’ требует нового акта суждения, типа «А судит, что aRb находится в отношении Ú к ~aRb», а в этом случае необходимо установить то, каким образом возможен переход от суждения об отношения между предметами к суждению об отношении между атомарными комплексами.
Положение осложняется тем, что при таком понимании функция логической формы в атомарных и неатомарных комплексах различна. С одной стороны, в атомарных комплексах она устанавливает форму отношения между объектами; с другой стороны, в неатомарных комплексах она сама находится в отношении к объектам, что регулируется другой логической формой. Рассмотрим, например, «А судит, что ~aRb». С точки зрения Рассела, в этом суждении форма неатомарного комплекса, по-видимому, должна устанавливать отношение между предметами a и b и логической формой атомарного комплекса xRy, говоря о том, что а и b не находятся в отношении R. В суждении «А судит, что aRbÚ~aQb» логическая форма неатомарного комплекса устанавливала бы соответствующее отношение между предметами а и b и формами xRy и xQy. Вряд ли можно считать обоснованным, что одна и та же сущность может играть столь различные роли.
Ещё более существенные затруднения возникают при рассмотрении общности. Понимание предложений как комплексных имён предполагает, что в акте суждения играют роль имена конкретных объектов. Но последние отсутствуют в предложениях общности. Какую роль в этом случае выполняет логическая форма? Что именно упорядочивается в акте суждения? Кроме того, если взять предложения ‘aRb’ и ‘($х,y)xRy’, очевидно, что они имеют сходную структуру. Однако предполагая подход Рассела, их логическая форма должна трактоваться различно, поскольку если в первом случае в акте суждения она будет определять отношение между предметами, то единственно возможное объяснение второго случая должно трактовать её с точки зрения отношения между предметами и формами. Отсюда вытекало бы, что одно и то же отношение имеет место как между предметами, так и между формами и предметами. Но это противоречит теории типов, принимаемой Расселом.
Витгенштейн же считает, что понимание функции логической формы должно быть единообразным для различных типов предложений, «мы не можем сказать, что отношение, которое в определённых случаях имеет место между предметами, иногда имеет место между формами и предметами. Это идёт вразрез с теорией суждения Рассела» (ЗЛ, С.129(3)).
Понимание истины и лжи с точки зрения упорядочивания конституент суждения не удовлетворяет как раз тому критерию, на основании которого Рассел критикует неогегельянцев. Выдвигая в качестве одного из основных принципов теории истины коррелятивность истины и лжи, Рассел тем не менее связывает их с двумя разными актами суждения, в которых познающий разум упорядочивает конституенты различным образом, что зависит от по-разному установленного смысла отношения.
С точки зрения Витгенштейна, коррелятивность истины и лжи должна проглядывать уже в одном акте суждения, если эксплицитно установить его форму. Форма должна учитывать наличие у предложения двух истинностных полюсов (истина и ложь), отношение к которым осуществляется в едином действии познающего разума. Это возможно только потому, что содержание предложения скоординировано с соответствующим фактом независимо от субъекта. «Когда мы говорим: ‘А судит что’ и т.д., мы должны сослаться на целое предложение. Этого нельзя выполнить, сославшись на его конституенты и формы, но не в надлежащем порядке. Это показывает, что предложение с тем, чтобы оно было высказано, само должно встречаться в утверждении; например, каким бы образом не истолковывалось ‘не-р’, вопрос ‘Что же отрицается?’ должен иметь значение» (ЗЛ, С.116(2)). По мнению Витгенштейна, основная ошибка Рассела заключается в уподоблении суждения наименованию, хотя и имеющему специфический характер, где суждение, по сути дела, предполагает наличие соответствующего комплекса, состоящего из конституент, непосредственно известных говорящему. Задача судящего разума сводится к установлению координации между конституентами комплексного знака и конституентами соответствующего факта (вспомним, что и логическая форма является конституентой), а это вполне укладывается в понимание предложения как комплексного имени и акта суждения как акта называния. Истинность и ложность в этом случае уподобляются правильному и неправильному наименованию, связанному с различными действиями рассудка.
Однако одно лишь знакомство с конституентами и формами не исключает возможности бессмысленных суждений, что, по Витгенштейну, является критерием правильной теории суждений. «Правильная теория суждения должна сделать так, чтобы о бессмыслице судить было невозможно» (ЗЛ, С.117(6)). Последнему требованию расселовская теория как раз и не удовлетворяет, поскольку допускает комбинацию конституент, которые хотя и известны непосредственно, при комбинации в комплекс образуют бессмысленное предложение. Возьмём, например, “Сократ тождественнее Платона”. С точки зрения Рассела, подобное суждение вполне допустимо. Здесь непосредственно известные конституенты скомбинированы соответственно форме двухместного комплекса xRy. Согласно трактовке акта суждения, если это предложение удовлетворяет смыслу отношения, то оно должно быть истинным, если нет, то истинным должно быть предложение “Сократ не тождественнее Платона”. Однако оба предложения являются бессмысленными. Это лишний раз показывает, что предложения нельзя уподоблять именам или комплексам имён. Непосредственное знакомство не предполагает смысла. Имя есть своего рода метка объекта, замещающая его в языке. Но совершенно не то происходит с предложением. Если значение имён задаётся отношением непосредственного знакомства, то при рассмотрении предложений необходимо учитывать заключённый в них смысл[88]. Как говорит Витгенштейн, «имена – это точки; предложения – стрелки, они имеют смысл» (ЗЛ, С.125(4)).
Для классификации предложения как истинного или ложного недостаточно знакомства с его конституентами, поскольку такая классификация зависит от понимания смысла, выраженного в акте суждения. И такое понимание не есть следствие упорядочивания конституент согласно форме, так как сама форма не несёт никакого смысла. Последний, согласно Расселу, возникает лишь в результате деятельности познающего разума. Но такая деятельность имеет субъективный характер и не может иметь определяющего значения для логики. Хотя мы и получаем знание о том что, соответствует предложению, когда оно является истинным, это не имеет отношения к пониманию. «Ясно, что мы понимаем предложения без знания о том, истинные они или ложные. Но мы можем знать только значение предложения, когда знаем, что оно является истинным или ложным. То, что мы понимаем, есть смысл предложения» (ЗЛ, С.127(4)). Знание о том, каким образом упорядочены объекты действительности, имеет значение для того, что предложение опознаётся как истинное или ложное, но способность понимания от этого не зависит. Скорее, для этого уже нужно знать, что означает для предложения быть истинным или ложным. Истинностное значение указывает на соответствие предложения реальности. Но способность понимания не связана с реальностью, поскольку предложение можно понять и не зная о том, как оно связано с реальностью, т.е. не зная о том, истинное оно или ложное. Предложение “За пределами Солнечной системы есть жизнь” вполне понятно, хотя в данный момент его истинностное значение неизвестно. С точки зрения Витгенштейна, «когда мы понимаем предложение, мы знаем: что имеет место, когда оно - истинное, а что имеет место, когда оно - ложное. Но мы не знаем (с необходимостью), является ли оно действительно истинным или ложным» (ЗЛ, С.121(6)).
Таким образом, в отличие от Рассела, Витгенштейн считает, что представление суждения в виде пространственного комплекса неверно потому, что оно не учитывает понимания в едином акте суждения как условий истинности высказываемого предложения, так и условий его ложности, что конституирует смысл предложения, не сводимый к совокупности примитивных значений. «В ‘а судит р’ р нельзя заменить собственным именем. Это очевидно, если мы подставляем “а судит, что р является истинным, а не-р является ложным’. Предложение ‘а судит р’ состоит из собственного имени а, предложения р с его двумя полюсами, и соотнесения а с обоими этими полюсами определённым способом. Ясно, что это отношение не является отношением в обычном смысле» (ЗЛ, С.118(2)). Возможность отношения, о котором говорит Витгенштейн, должна быть предрешена уже в самом предложении ‘р’, поскольку возможность для ‘р’ быть истинным и ложным не создаётся в акте суждения. В суждении субъект лишь вступает в связь с тем, что уже предопределено структурой предложения. Отношение, о котором идёт речь, не является пространственным в том смысле, который предполагается расселовской теорией предложения как комплексного имени.
Всякое отношение в рамках предложения устанавливается логической формой. Именно она определяет для предложения возможность быть истинным и ложным. Как же устанавливается такое отношение? «Форма предложения имеет значение следующим образом. Рассмотрим символ ‘xRy’. Символу этой формы соответствует связь предметов, чьими именами являются соответственно ‘x’ и ‘у’. Предметы xy находятся друг к другу во всех видах отношений, и среди прочих некоторые находятся в отношении R, а некоторые – нет. Подобно тому, как я выделяю отдельную вещь с помощью отдельного имени, я выделяю всякое поведение точек х и у в связи с отношением R. Я говорю, что если х находится в отношении R к у, то знак ‘xRy’ должен быть назван истинным в отношении факта, в противном случае он должен быть назван ложным. Это и есть определение смысла» (ЗЛ, С.117(5)). Форма не является предметом, а представляет собой образец, в соответствии с которым все факты могут быть разделены на два класса. Факты, в которых значения ‘х’ и ‘у’ находятся в отношении R, Витгенштейн называет смыслоподобными предложению ‘xRy’, в противном случае – противоположными по смыслу. Таким образом, форма предложения лишь определяет, что имеются факты подтверждающие это предложение, и факты, его опровергающие, и следовательно, предложения заданной формы могут быть либо истинными, либо ложными. «Форма предложения подобна прямой линии, которая разделяет все точки на плоскости на правые и левые» (ЗЛ, С.125(4)). Это как раз решает затруднение, высказанное Витгенштейном в приведённом выше письме к Расселу. То, что из любого предложения (например, ‘aRb’) вытекает логическая сумма его самого со своим отрицанием (например, ‘aRbÚ~aRb’), обусловлено логической формой, определяющей биполярность предложения.
Подобная трактовка формы отличается от расселовской тем преимуществом, что она не зависит от необходимости осуществления акта суждения, понимаемого как переход к истинностному значению, предполагающему знакомство с какими-то действительными объектами. И в этом отношении логическая форма сохраняет генерализирующее значение, которое теряется при трактовке предложения как комплексного имени. Подход Рассела к рассмотрению логической формы и её связи с истинностным значением в акте суждения всегда предполагает пример какого-то отдельного предложения. Только в перспективе последнего упорядочивающая функция формы приобретает смысл, и в этом отношении она находится в подчинённом положении к акту суждения. Кстати, именно поэтому по-разному трактуются ‘aRb’ и ‘($х,y)xRy’, поскольку акт суждения иначе соотносит их конституенты (объекты в первом случае, формы и объекты – во втором)[89]. От подобного недостатка свободно объяснение Витгенштейна, который пишет: «Самое естественное возражение против способа, которым я ввёл, например, предложения формы xRy заключается в том, что он не объясняет такие предложения, как ($х,y)xRy и им подобные, которые тем не менее явно имеют общим с aRb нечто такое, что у cRd является общим с aRb. Но когда мы вводим предложение формы xRy, мы не упоминаем ни одного отдельного предложения этой формы; нам необходимо только ввести (x,y)f(x,y) для всех f любым способом, который делает смысл этих предложений зависимым от смысла всех предложений формы f(а,b) и, тем самым, доказывается оправдание нашей процедуры» (ЗЛ, С.129(6)).
Утверждая, что суждение не сводится к акту познающего разума, упорядочивающего конституенты комплексного имени, Витгенштейн приходит к выводу: «Не существует предмета, являющегося формой предложения, и не существует имени, являющегося именем формы» (ЗЛ, С.129(3)). Логическая форма не может рассматриваться как конституента предложения наряду с другими конституентами, она не дана в непосредственном знакомстве и не является какой-то особой сущностью. Форма есть принцип различения фактов. Сопоставление фактов с символом формы и разделение их на два класса в чём-то аналогично сопоставлению имени и значения. Форма xRy приобретает значение тогда, когда известно, что она различает поведение х и у в соответствии с тем, находятся они в отношении R или нет. Различение, устанавливаемое формой, как раз и является тем общим неопределяемым, которое необходимо для понимания предложения. Как говорит Витгенштейн, «предложение должно быть понято, когда поняты все его неопределяемые. В ‘aRb’ неопределяемые вводятся следующим образом: ‘a’ есть неопределяемое; ‘b’ есть неопределяемое; Чтобы ни могли означать ‘х’ и ‘y’, ‘xRy’ говорит нечто неопределяемое об их значении» (ЗЛ, С.122(5)). Посредством формы значение ‘R’ извлекается из всех возможных отношений, как посредством имени значение имени извлекается из всех возможных предметов. В отличие от значения имени значение предиката не является неопределяемым, поскольку зависит от соответствующей формы, которая предопределяет возможность такового. Но для каждого действительного отношения R эта процедура имеет психологический характер, как и непосредственное знакомство со значением имени. Действительное значение ‘R’ извлекается при осуществлении акта суждения, и в этом последний подобен соотнесению имени со значением.
Подобное понимание роли суждения имеет определяющее значение в установлении соотношения логики и теории познания. Логика, оперируя именами, предполагает, что они непосредственно репрезентируют значение. Но характер того, каким образом конкретное имя соотносится с конкретным объектом, несомненно выходит за рамки компетенции логики. Точно так же, оперируя предикатами, логика предполагает, что в акте суждения может быть установлено конкретное значение предиката, но это опять-таки выходит за рамки компетенции логики. Установление конкретных способов корреляции имён с объектами и суждений с предикатами является предметом теории познания. В зависимости от эпистемологических предпочтений эти способы могут пониматься по-разному. Но очевидно, что логику это не интересует. Так же как особенности функционирования имён можно исследовать вне зависимости от того, как устанавливается их значение, ориентируясь только на то, что таковое должно быть, форма предложения может быть исследована до всякого акта суждения. Это показывает, что соотношение суждения и формы предложения совершенно иное, чем считал Рассел. Акт суждения не имеет никакого отношения к пониманию формы предложения, наоборот, «вопросы теория познания, относящиеся к природе суждения и веры, не могут быть решены без корректного понимания формы предложения» (ЗЛ, С.130(4)). Следствием такой постановки вопроса является то, что из логики должны быть элиминированы всякие теоретико-познавательные предпосылки.
Представленная выше экспозиция ясно показывает, что критическая оценка расселовской теории суждения и иное понимание функции логической формы внутренне связаны с изменением трактовки сущности предложения. В принципе, можно сказать, что первое и второе взаимно имплицируют друг друга. Подход со стороны формы и со стороны предложения есть лишь различный угол зрения на одну и ту же проблему и способы её решения. Выбор подхода определяется сугубо методологическими предпочтениями. Теперь зайдём с другой стороны и рассмотрим, как изменяется понимание предложения.
Фундаментальная интуиция, которая лежит в основании исследования сущности предложений, состоит в том, что «предложения не являются именами» (ЗЛ, С.121(7)). Однако сразу же возникает вопрос, что здесь понимается под именем? Вопрос совсем не прост. Ведь даже приняв именную теорию предложений, необходимо учесть, что значения предложений как имён, очевидно, отличаются от значений имён собственных. Если собственным именам соответствует то, что обычно понимается под объектами, то предложениям соответствуют либо истинностные значения, как у Фреге, либо комплексы объектов, как у Рассела. Ни истинностные значения, ни комплексы не являются объектами в обычном смысле. Различно и знаковое выражение собственных имён и предложений. Таким образом, отказывая предложениям в статусе имён, Витгенштейн, очевидно, имеет в виду не сходство знаков и не сходство объектов. О чём же тогда идёт речь?
Единственно возможный ответ на этот вопрос заключается в том, что имена и предложения символизируют совершенно по-разному. «Наименование – говорит Витгенштейн – подобно указанию» (ЗЛ, С.117(2)). В этом смысле имя непосредственно предъявляет нам свой объект[90]. Но можно ли то же самое сказать о предложении? Всегда ли нам известно, что значением данного предложения является именно истина или именно ложь? Всегда ли нам известно, что комплекс, соответствующий предложению, существует? Очевидно, нет. Однако это не мешает нам осмысленно оперировать предложениями. Мы можем понять предложение, даже не имея представления, имеет ли место то, что ему соответствует. «Понимать предложение – значит знать, что имеет место, когда оно - истинное. Следовательно, мы можем понимать его без знания о том, что оно – истинное» (ЗЛ, С.128(3)). Дело в том, что предложения, помимо значения, имеют ещё и смысл. Это как раз и отличает их от имён. Смысл предложения вводится следующим образом: «Каждое предложение является существенно истинным-ложным: чтобы понимать его, мы должны знать и то, что должно иметь место, когда оно является истинным, и то, что должно иметь место, когда оно является ложным. Таким образом, предложение имеет два полюса, соответствующих случаю его истинности и случаю его ложности. Это мы называем смыслом предложения» (ЗЛ, С.121(13)). В отличие от имени, которое указывает на один объект, с каждым предложением скоординировано два факта. Один из них делает его ложным, а другой – истинным[91]; «я понимаю предложение ‘aRb’, когда знаю, что ему соответствует либо факт aRb, либо факт не aRb» (ЗЛ, С.128(4)).
Ещё одна характеристика, которая, согласно Витгенштейну, отличает предложения от имён, – их комплексность. Комплексность, о которой идёт речь, отличается от той комплексности, которую имеет в виду Рассел, считая предложение именем комплекса. Точка зрения Рассела в данном пункте вообще представляется противоречивой. Действительно, рассматривая предложения как имена комплексов, необходимо предполагать, во-первых, что они отражают комплексность своего значения и, во-вторых, что они являются простыми, непосредственно репрезентируя свои объекты как имена. С другой стороны, если комплексность непосредственно связана с наличием объектов, репрезентируемых собственными именами, входящими в предложение, как тогда объяснить предложения, которые содержат только мнимые переменные? Такие предложения должны были бы быть простыми. Предложение типа ‘($x,y)xRy’ нельзя было бы рассматривать как предложение в собственном смысле, поскольку оно не содержит имён объектов. Единственно разумным объяснением в рамках расселовской теории было бы рассмотрение данного предложения как имени формы. Однако возможность отрицания таких выражений показывает, что они не являются именами объектов, поскольку ставить отрицание перед именем не имеет смысла. Поэтому «предложения всегда комплексны, даже если они не содержат имён» (ЗЛ, С.122(4)). Это указывает на то, что они, в отличие от имён, никогда не могут вводиться как отдельные неопределяемые, как поступал Рассел. Всё дело в том, что комплексные символы состоят из частей, которые могут входить в другие комплексные символы, и если бы предложения были неопределяемыми, то каждый раз одинаковая часть должна была бы вводиться вновь. В этом случае никогда нельзя было бы ручаться за то, что она обозначает одно и то же. Способ, которым вводятся неопределяемые, должен позволять конструировать из одних этих неопределяемых любое предложение, имеющее смысл.
Представленные выше объяснения Витгенштейна показывают, что предложения, как комплексные символы, состоят из неопределяемых различных видов (имена и формы) и включают определяемые элементы, каковыми являются символы свойств и отношений. Это должно объяснить символические особенности предложений, которые, помимо значения, имеют ещё и смысл. Значением является «факт, который действительно соответствует предложению» (ЗЛ, С.116(5)). Рассматривать предложение как имя комплекса можно было бы только тогда, если бы оно являлось простой репрезентацией данного факта, но в этом случае неопределяемыми должны были бы быть предикаты, что не так. «Факты не могут быть наименованы» (ЗЛ, С.118(6)), так как в этом случае не выражалось бы отношение между объектами. Функцию простой репрезентации в предложении выполняют собственные имена, но предложение не сводится к их совокупности, так как между ними должна устанавливаться некоторая связь. За эту связь отвечает логическая форма, которая задаёт значение предиката, различая поведение объектов. Именно поэтому с предложением скоординирован не просто один факт, а факты, которые его подтверждают, и факты, которые его опровергают, что определяет смысл предложения. Если бы предложение было совокупностью имён, то подобное различение провести было бы нельзя. Класс имён не может выражать смысл, поскольку, являясь простыми указаниями, имена не могут различать никакого поведения объектов. Символ предложения должен быть объяснён так, чтобы в этом объяснении уже проглядывала возможность различения.
Возьмём предложение ‘aRb’, оно включает неопределяемые элементы ‘a’ и ‘b’, являющиеся собственными именами, и неопределяемый элемент ‘xRy’, символизирующий форму предложения. Форма, различая поведение ‘a’ и ‘b’, задаёт значение символа отношения ‘R’, который сам по себе значения не имеет. В ‘aRb’ ‘R’ выглядит как символ, подобный ‘a’ и ‘b’, но не является таковым. Предложение не просто указывает на факт, оно отражает поведение объектов. «В ‘aRb’ символизирует не комплекс, а тот факт, что символ ‘а’ находится в определённом отношении к символу ‘b’. Таким образом, факты символизируются фактами» (ЗЛ, С.118(5)). Символическая нагрузка комплексного знака ‘aRb’ не в том, что он указывает на комплекс, в котором а находится в отношении R к b, здесь символизирует именно факт, что ‘a’ находится в определённом отношении к ‘b’, т.е. факты, в которых объекты находятся в определённых отношениях, символизируются фактами, в которых в определённых отношениях находятся символы. «Предложения [которые представляют собой символы, отсылающие к фактам] сами являются фактами: чернильное пятно на этом столе может выражать то, что я сижу на этом стуле» (ЗЛ, С.119(8)). Такие объекты, как чернильное пятно и стол, указывают на такие объекты как, я и стул, но символизирует здесь именно тот факт, что объекты как в первом, так и во втором случае упорядочены определённым способом. И нет никакого объекта, который соответствовал бы самому упорядочиванию, последнее полностью выражается расположением объектов. Аналогично в предложении, где есть неопределяемые (собственные имена), указывающие на объекты, и общее неопределяемое (форма), указывающее на способ упорядочивания. Собственные имена являются содержательными компонентами предложения, форма – структурным компонентом. Первым соответствует нечто материальное, второй – нет. Что касается символа ‘R’, то он не является неопределяемым, а представляет собой языковую конвенцию, отражающую структурные особенности предложения, которые можно выразить иным способом, например определённым порядком собственных имён.
Таким образом, соотношение предложения и факта совершенно иное, нежели соотношение имени и объекта. По мнению Витгенштейна, данное обстоятельство скрыто двусмысленностью слова ‘значение’. Говоря о том, что факт является значением предложения, можно впасть в ошибку, проводя аналогию с тем, как вещь является значением имени. Однако ни смысл, ни значение предложения не являются вещами. Факты представляют собой ‘сущности’ sui generis, которые не сводятся ни к вещам, ни к их совокупностям. На это указывает и то, что одному и тому же факту соответствуют два предложения, одно из которых истинно, а другое ложно. Один и тот же факт делает предложение ‘р’ истинным, а предложение ‘не-р’ – ложным. Ничего подобного не происходит с вещью, которой соответствует только одно собственное имя. Эту характеристику соотношения предложения и факта Витгенштейн считает главной особенностью своей теории. «В моей теории, – говорит он, – p имеет то же самое значение, что и не-p, но противоположный смысл» (ЗЛ, С.117(6)). Действительно, то, как Витгенштейн объясняет смысл, показывает, что предложение ‘р’ отличает от предложения ‘~р’ только различие в координации истинностных полюсов. Значение ‘р’ самого по себе и значение ‘р’, входящего в ‘~р’, остаётся при этом тем же самым. Понимая предложение, мы знаем, что имеет место, когда оно истинно, и что имеет место, когда оно ложно. При переходе от ‘р’ к ‘~р’ то, что имеет место, когда ‘р’ – истинно, заменяется на то, что имеет место, когда ‘р’ является ложным, а то, что имеет место, когда ‘р’ является ложным, заменяется на то, что имеет место, когда ‘р’ – истинно, но это не затрагивает факта, являющегося действительным значением ‘р’. Данное обстоятельство отличается от соответствующего решения вопроса у Фреге и Рассела, для которых значение ‘р’ и ‘~р’ различно. У первого им сопоставлены два разных объекта (Истина и Ложь), у второго им сопоставлены различные комплексы. Решение Витгенштейна отличается тем преимуществом, что оно устанавливает корреляцию истины и лжи в рамках одного и того же предложения, тогда как, например, для Фреге между ними нет внутренней связи[92].
Здесь, правда возникает один вопрос: если ‘p’ – истинно, а ‘~р’ – ложно, то их значением является действительный факт, например aRb. Но как быть, если ‘р’ – ложно, а ‘~р’ – истинно, ведь в этом случае нет никакого действительного факта типа aRb, соответствующего ‘р’. Эта проблема решается введением отрицательных фактов. Отрицательные факты соответствуют ложным атомарным предложениям и подтверждают их отрицания. Как говорит Витгенштейн, «существуют положительные и отрицательные факты: если предложение “Эта роза не красная” – истинно, тогда то, что оно обозначает, является отрицательным. Но наличие частицы “не” не указывало бы на это, если бы мы не знали, что значение предложения “Эта роза красная” (когда оно является истинным) – положительно. Только из обоих, отрицания и отрицаемого предложения, мы можем заключить о характере значения целого предложения» (ЗЛ, С.120(4)). Можно было бы подумать, что введение отрицательных фактов является излишним, и их следует заменить надлежащей интерпретацией положительных фактов[93]. Например, можно было бы сказать, что когда мы говорим “Эта роза не красная”, то тем самым указываем на некоторый положительный факт, скажем, что эта роза белая или жёлтая. Но если задаться вопросом, почему именно этот факт будет опровергать предложение “Эта роза красная”, единственный аргумент, который можно привести, сводился бы к тому, что красное не есть белое или жёлтое. Последнее же есть в такой же степени отрицательный факт, как и тот, от которого мы пытались избавиться. Точно так же не поможет замена отрицательного факта отсутствием положительного, поскольку отсутствие факта само по себе есть отрицательный факт. Таким образом, если значением ‘р’ и ‘~р’ является один и тот же факт, то значением истинного ‘р’ и истинного ‘~р’ являются различные факты.
Введение в предложение полюсов и признание его фактом способствует пересмотру ещё одного положения Фреге. Речь идёт о форме утвердительного предложения, от которой зависит ‘признание предложения истинным’, и трактовке знака суждения как общего всем предложениям предиката. Напомним, что, согласно Фреге, утверждение есть переход от смысла предложения к его истинностному значению. В этом случае, знак суждение выполняет роль предиката предложения типа “истинно, что р”. Прежде всего, укажем на то, что рассматривать истину как глагол предложения можно только тогда, когда предложение является именем, только в этом случае составленное из них целое будет иметь смысл. Если же предложение считать фактом, то приписывание ему предиката становится бессмысленным. Предикат может входить только в структуру самого предложения, определяя его биполярность. Как говорит Витгенштейн, «“является истинным” или “является ложным” - не глагол предложения, но всё, что истинно, уже должно содержать глагол» (ЗЛ, С.115(3)). С другой стороны, если смысл определяется с точки зрения биполярности как понимание того, при каких условиях предложение является истинным, а при каких ложным, то бессмысленным становится и признание за утверждением особой функции, вводящей истину и ложь. Форма предложения указывает на то, что предложение сущностно биполярно и тем самым определяет возможность его понимания до всякого утверждающего истинностное значение акта. «Существуют только не утверждаемые предложения. Утверждение является сугубо психологическим» (ЗЛ, С.118(1)). Истинностные полюса инкорпорированы в структуру самого предложения, поэтому понимание предложения не зависит от привходящей с актом суждения утвердительной силы. Точно так же и смысл вопроса как понимание того, при каких условиях ответ будет истинным или ложным, не зависит от ‘запроса’, который, согласно Фреге, сопровождает вопрошание. Смысл суждения и вопроса выражен с помощью одной и той же логической формы. Форма предложения может быть исследована до всякого акта суждения, поэтому из области логики должна быть устранена всякая субъективная окраска предложения. «Все суждения, команды и вопросы находятся на одном и том же уровне. Логику интересуют только неутверждаемые предложения» (ЗЛ, С.118(6)).
Пересмотр концепции неопределяемых лежит в основании критики теории типов. В письме к Расселу Витгенштейн замечает: «Любую теорию типов нужно сделать излишней с помощью надлежащей теории символизма» (ПР, С.149). Напомним, что теория типов стремится различить неопределяемые разных видов, апеллируя к их значениям. Значения знаков вида ‘a’ и ‘b’ отличны от значения знаков вида ‘f’ и ‘R’, первые являются именами объектов, вторые – знаками свойств и отношений. Различие в типах значения накладывает ограничения на их использование. Тип знака определяется типом значения, когда устанавливается словарь. Мы говорим, что символы вида ‘а’ и ‘b’ обозначают объекты и, следовательно, принадлежат к первому типу, символы вида ‘f’ и ‘R’ обозначают свойства и отношения и, следовательно, принадлежат ко второму типу, символы вида ‘Q’ и ‘Y’ обозначают свойства свойств и отношений и, следовательно, принадлежат к третьему типу и т.д. Правила образования комплексных выражений должны предопределять, какие выражения являются бессмысленными. Например, выражение ‘f(f)’ – бессмысленно, поскольку аргументом функции может быть либо собственное имя, либо функция более низкого порядка, но никак не сама эта функция и никакая другая функция, принадлежащая к тому же самому типу. Для Рассела тип знака не определяем, он устанавливается вместе с типом значения.
Принципиальная позиция Витгенштейна сводится к тому, что при введении неопределяемых не нужно указывать их значение, поскольку правильно установленная символическая запись сама задаёт правила использования знаков, нужно лишь надлежащим образом выявить правила анализа, позволяющие вычленять в предложении совокупность неопределяемых. Ошибка Рассела заключается в том, что он рассматривает знаки отношений как неопределяемые по аналогии с собственными именами. Для Витгенштейна же неопределяемыми являются имена и формы, которые имеют совершенно различный вид, и уже одно это не позволяет поставить их на место друг друга. Как указывает Витгенштейн в том же письме, «если я посредством анализа привожу предложение “Сократ смертен” к ‘Сократ’, ‘смертность’ и ($x,y)Î1(x,y), я хочу, чтобы теория типов сказала мне, что “смертность есть Сократ” – бессмысленно, потому что если я рассматриваю ‘смертность’ как собственное имя, нет ничего такого, что предохранило бы меня от ошибочной подстановки. Но если я посредством анализа прихожу к ‘Сократ’ и ‘($х).х – смертен’ и в общем случае к ‘х’ и ($х)fх, то ошибочная подстановка становится невозможной, потому что два символа сами относятся теперь к различным видам» (ПР, С.149). При таком анализе апелляция к значениям становится бессмысленной.
Действительно, знаки различного вида обладают определённым сходством, собственные имена очевидно похожи. Но то, что они имеют общего, не должно вводиться до того, как вводятся сами знаки. Логическая манипуляция символами, которые способны нести смысл, должна быть независима от их значения[94]. От бессмысленности должна предохранять уже сама конструкция предложения, с которой только и имеет дело логика. В логике нас не интересует отношение имени или предложения к своим значениям, нас интересует только возможность таковых, которая должна предусматриваться видом самого символа. Указать возможное значение символа, если не вводить его непосредственно, можно только задав правила комбинации символа с другим символом. Таким образом, неопределяемые вводятся в знаковую систему через указание того, как они относятся к другим неопределяемым, т.е. тип символа сам не является неопределяемым, он зависит от другого неопределяемого. Неопределяемое не может просто встречаться в двух различных выражениях, оно должно входить в них одним и тем же способом. Например, вводя неопределяемое вида ‘а’ или ‘b’, мы указываем на то, что оно может занимать аргументное место в ‘($х)fх’, и тем самым задаём его понимание как собственного имени; никаким другим способом оно не может входить в другое предложение. Отсюда вытекает единственное требование: неопределяемое должно вводиться сразу во всех возможных комбинациях, в которых оно может встречаться[95]. Если вводится неопределяемая форма xRy, она должна одинаково пониматься во всех предложениях, отвечающих её структуре (таких как ‘aRb’, ‘($x,y)xRy’ и т.п.), её нельзя вводить сначала для одной комбинации, а затем для другой, поскольку «оставалось бы сомнительным, было ли её значение одним и тем же и в том и в другом случаях, и отсутствовало бы основание для использования одного и того же способа комбинирования символами в обоих случаях» (ЗЛ, С.129(7)).
Аналогичные соображения касаются и определения типа предложения. Для Рассела тип предложения задаётся типом значения выражений, из которых оно построено. Субъектно-предикатное предложение, например, определяется как предложение, в котором объекту приписывается свойство, а предложение вида ‘aRb’ – как предложение, в котором устанавливается отношение между двумя объектами. Для Витгенштейна тип предложения устанавливается на основе количества и характера входящих в него неопределяемых. Предложение опознаётся как субъектно-предикатное, если оно построено из одного имени и одной формы. Отсюда следует, что «тип предложения может быть опознан из одних его символов» (ЗЛ, С.119(3)).
Установления типа предложения из одних символов и требование полноты введения неопределяемых решают ряд проблем, в частности проблему непредикативных функций, решение которой заставило Рассела принять специальную аксиому сводимости. Как уже указывалось, непредикативная функция самореферентна, она указывает на саму себя в качестве своего возможного аргумента. Для предотвращения парадокса предложения с предикативными и непредикативными функциями разводятся Расселом по различным типам. По Витгенштейну же, при опознании типа предложения достаточно ввести тип неопределяемых. А для этого – согласно требованию полноты введения – необходимо описать вид всех символов, для которых устанавливается неопределяемая форма. Если таким образом мы вводим, скажем, имена и задаём тип соответствующего предложения, то сама форма, очевидно, не может удовлетворять описанию, и в этом случае она не самореферентна. Если же мы применяем её к самой себе, то здесь эта форма вводится вновь и, следовательно, не является той же самой формой. Здесь может ввести в заблуждение только сходство изображения. Например, «если мы описываем вид символов, для которых устанавливается “f!”, … то “(f).f!x” автоматически не может подходить под это описание, потому что оно СОДЕРЖИТ “f!x”, а описание должно описывать ВСЁ, что символизирует символ вида f!» (ЗЛ, С.119(6)). Всё дело в том, что при введении символа мы не можем указывать на него самого, поскольку нам ещё только предстоит его ввести. Когда же мы так поступаем, то получается, что предложение в скрытой форме содержит само себя. При правильном понимании неопределяемых это невозможно. «Предложение не может встречаться в себе самом. Это – фундаментальная истина теории типов» (ЗЛ, С.119(1)). Причём эта фундаментальная истина устанавливается не апелляцией к значениям символов, а исключительно из анализа особенностей знаковых изображений.
На изменении понимания сущности предложения, которое не является именем, поскольку обладает не только значением, но и смыслом, предопределённым биполярностью, основана критика концепции логических объектов. Здесь Витгенштейн оттталкивается от некоторых моментов фреге-расселовского объяснения логических констант. Напомним, что трактовка логических констант как символов одноместных и двуместных функций нерасторжимо связано с пониманием предложений как имён объектов (истинностных значений, как у Фреге, или комплексов, как у Рассела), поскольку свойства могут быть только у объектов и отношения могут быть только между объектами. Но если бы это было так, тогда логические константы были бы применимы не только к предложениям, но и к собственным именам. Однако такого не происходит. Попытка приписать отрицание собственному имени или связать собственные имена логическими константами всегда приводит к выражению, лишённому смысла. «Причина, по которой “~Сократ” ничего не обозначает, состоит в том, что “~x” не выражает свойства x» (ЗЛ, С.120(3)). Собственные имена, сочленяясь со знаками свойств или отношений, образуют совершенно новый тип выражения, которое, согласно Витгенштейну, помимо значения, должно иметь смысл. Приписывая имени ‘Сократ’ предикат ‘мудр’, мы получаем вполне осмысленное предложение ‘Сократ – мудр’. Это возможно только потому, что в дело вступает логическая форма, определяющая биполярность предложения, устанавливая, каким образом ведут себя факты.
Пример показывает, что соотношение имён объектов с символами свойств и отношений носит совершенно иной характер, нежели соотношение предложений с логическими константами. Равным образом и наоборот, бессмысленность возникает в том случае, если предложению пытаются приписать какое-то действительное свойство или связать предложения какими-то действительными отношениями, что вполне было бы возможно, если бы предложения действительно являлись именами объектов. Очевидно, однако, что «“или” и “не” и т.д. не являются отношениями в том же самом смысле, как “правое” и “левое”» (ЗЛ, С.124(5)). Последнее определяется тем, что предложения имеют не только значение, но и смысл. А значит, если мы пытаемся приписать какое-то свойство предложению, то речь должна идти как раз о смысле, т.е. о понимании того, что имеет место в случае истинности и в случае ложности предложения, а не об объекте. Это совершенно очевидно, коль скоро мы задаёмся вопросом о смысле неатомарных предложений, поскольку наличие у них смысла предопределено наличием смысла у атомарных предложений. «Мы можем видеть, что ~р не имеет смысла, как раз тогда, если его не имеет р; поэтому мы можем также сказать, что р не имеет смысла, если его не имеет ~р. Этот случай совершенно отличен от случая с fа и а; поскольку а обладает здесь значением независимо от fа, хотя fа его предполагает» (ЗМ, С.146(1)). Соотношение смысла атомарных и неатомарных комплексов показывает, что логические операторы, в отличие от действительных свойств и отношений, предполагающих наличие значения у имён, не затрагивают смысла атомарных предложений. Последнее приводит к выводу, что «логические неопределяемые не могут быть предикатами или отношениями, потому что предложения благодаря смыслу не могут иметь предикатов или отношений. Ни “не”, ни “или”, как и суждение, не аналогичны предикатам и отношениям, потому что они не вводят ничего нового» (ЗЛ, С.122(3)).
Анализ соотношения логических союзов и предложений служит и дополнительным аргументом в пользу того, что предложения не являются именами. В отношении теории Фреге утверждение о том, что предложения не являются именами истинностных значений, при характеристике логических констант получает дополнительный смысл. В том, как Фреге объяснял отрицание, существенную роль играет то, что функция, обозначенная как ‘~’, заменяет Истину на Ложь, и наоборот, а стало быть, ‘р’ и ‘~р’ должны иметь различные значения. Для Витгенштейна же важно, что ‘р’ и ‘~р’ имеют одинаковое значение, под которым понимается факт, делающий одно из них истинным, а другое ложным. Если учесть, что для Фреге значение целого выражения всегда находится в функциональной зависимости от значения выражений, его составляющих, получается, что знак ‘~’ вообще не имеет никакого значения, поскольку его наличие никак не отражается на значении предложения. Отсюда вытекает, что логика не должна иметь дела не только с отдельными предметами, такими как Истина и Ложь у Фреге, «но столь же мало с отношениями и предикатами» (ЗЛ, С.121(3)).
В пользу того, что не существует логических констант, говорят и некоторые особенности символических систем Фреге и Рассела. Особую роль здесь играет взаимоопределимость логических операторов, на которую указывалось выше. Поскольку ‘×’ определимо через ‘~’ и ‘Ú’, а ‘Ú’, в свою очередь, через ‘~’ и ‘×’ или через ‘~’ и ‘É’ (возможны и другие комбинации), что выбрать в качестве исходных неопределяемых, есть предмет произвольного соглашения. То же самое касается определимости ‘$х’ через ‘(х)’, и наоборот. «Чередующаяся неопределяемость показывает, что до неопределяемых всё же нельзя дойти» (ЗЛ, С.121(12)). Это служит демонстрацией того, что, вопреки мнению Фреге и Рассела, значения логических констант не обнаруживаются, а постулируются. Но если исходные символы являются результатом конвенции, то чем в таком случае были бы их значения, ведь объекты, уже в силу того, что они объекты, не могут зависеть от произвольного соглашения. Витгенштейн считает, что «возможность перекрёстного определения старых логических неопределяемых, сама по себе показывает, что они не являются настоящими неопределяемыми, и даже более убедительно, что они не обозначают отношений» (ЗЛ, С.124(5)). В пользу точки зрения Витгенштейна говорят и особенности функционирования отрицания. В системах Фреге и Рассела обоснован переход от ‘р’ к ‘~~р’ и от ‘~~р’ к ‘р’, которые рассматриваются как законы введения и снятия двойного отрицания. В этом смысле знаки ‘р’ и ‘~~р’ можно рассматривать как тождественные. Но чем тогда могло бы быть значение отрицания? Во всяком случае, оно не является объектом, поскольку, если бы это было так, то указанные символы должны были бы иметь различное значение. Но в случае двойного отрицания знак ‘~’ просто исчезает. Ничего подобного не происходит в случае приписывания предиката собственному имени. Переход от ‘а’ к ‘ffа’ или от ‘ffа’ к ‘а’ невозможен при любом ‘f’ и при любом ‘а’. Это показывает, что отрицание имеет совершенно иной характер, нежели предикат, и не может трактоваться как одноместная функция или свойство. Несмотря на то, что в ‘~p’ ‘~’ выглядит как ‘f’, это символы различной природы.
Высказанные соображения приводят Витгенштейна к выводу, что «логических констант быть не может. Довод против них - всеобщность логики; логика не может трактовать о специальном множестве предметов» (ЗЛ, С.121(9)).
Естественное следствие, вытекающее из несуществовании логических объектов, говорит о том, что бессмысленно рассматривать логические операторы и кванторные выражения так, как это делают Фреге и Рассел. Роль соответствующих символов нельзя прояснить с помощью анализа того, что они обозначают. Они не являются знаками специфических истинностно-истинностных функций и, следовательно, не могут рассматриваться как логические константы, т.е. как имена специальных объектов. Конечно, выражения, соответствующие логическим операторам, присутствуют в любом языке, поскольку способность выразить соотношение истинностных значений предложений является его необходимой чертой. Логика, создавая искусственный язык, лишь стремится прояснить соответствующие взаимосвязи свободным от эквивокаций образом. Но это отнюдь не означает, что знаки, полученные в результате формализации, должны трактоваться некоторым одинаковым способом, как это предлагают Фреге и Рассел. То, что в результате отвлечения от смысла языковых выражений возникает представление об универсальных способах отношения между предложениями, ещё не должно служить основанием для введения сходного символического изображения. Как раз наоборот, то, что имеются выражения, приспособленные служить для обозначения соотношений, которые по характеру отличаются от всех других, должно служить предостережением против единообразной трактовки знаков. Но здесь как раз и возникает ловушка. Предложенный Фреге и Расселом язык требует введения особых элементов для характеристики логических связей. Введение знаков для отношений и свойств скрывает существо дела, поскольку символы не всегда действительно являются тем, чем кажутся. Основанием смешения здесь является то, что символы типа ‘pÚq’ и ‘~p’ выглядят вполне подобными символам ‘aRb’ и ‘fa’, и если при истолковании последних ‘R’ и ‘f’ естественно склоняются трактовать как символы для отношения и свойства соответственно, то переносить это на ‘Ú’ и ‘~’ совершенно необоснованно. Это вводит в заблуждение, поскольку логические знаки пытаются интерпретировать по аналогии с нелогическими, что и приводит к неадекватным результатам.
Кроме того, по мнению Витгенштейна, рассмотрению логических элементов знаковой системы как обозначений логических объектов способствует несовершенство предлагаемой символики, которая не удовлетворяет принципу тождественности смысла, закреплённого за одним и тем же знаком. В частности, это касается теории Фреге, для которого различные знаки, указывающие на одно и то же значение, должны иметь различный смысл. Но последнее условие как раз и не выполняется. Витгенштейн утверждает: «Если p = не-не-p и т.д., это показывает, что традиционный метод символизма ошибочен, поскольку он допускает многообразие символов с одним и тем же смыслом; отсюда следует, что при анализе таких предложений мы не должны руководствоваться расселовским методом символизации» (ЗЛ, С.126(2)). Упоминание о ‘расселовском методе символизации’ указывает лишь на то, что и для Рассела, который не допускает такой сущности, как смысл, различные знаки, поскольку они различны, должны иметь разное значение. Однако дело в том, что символическую нагрузку несёт не каждая особенность символа. Возьмём, например, ‘~~р’. Если бы каждый компонент данного комплексного символа имел значение, как полагали Фреге и Рассел, тогда в нём должно было бы встречаться ‘~р’. Но поскольку ‘~~р’ тождественно ‘р’, то ‘~р’ должно было бы входить в ‘р’, что, очевидно, не так. Витгенштейн же считает, что если различным молекулярным функциям приписывается одно и то же значение, в них должно символизировать одно и то же.
Использование традиционных обозначений, таких как ‘É’, ‘Ú’ и ‘~’, скрывает тождество и различие в методах символизации, заставляя думать, что ‘р’, ‘~~р’, ‘~~~~р’ являются различными предложениями, связанными между собой отношением следования. То же самое касается отношения ‘р’ к предложениям вида ‘рÚр’ или ‘рÚ~~р’. Каким образом можно объяснить существование такого многообразия знаков, не отличающихся друг от друга материальной информацией, если считать логические операторы константами? «Одна из причин, чтобы считать старую систему записи ошибочной, связана со значительной неправдоподобностью, что из каждого предложения должно следовать бесконечное число других предложений, таких как не-не-p, не-не-не-не-p и т.д.» (ЗЛ, С.115(1)).
Наличие в языке логических операторов ещё не означает, что их символическая нагрузка аналогична символической нагрузке имён объектов и имён функций. Способ обозначения логических операторов должен быть совершенно иным, чем у символов другого рода. Соответственно, должен существовать и некоторый метод обозначения, который был бы свободен от недостатков метода Фреге и Рассела. На то, что такой метод вполне возможен, указывает уже то, как традиционно объясняются логические операторы. «Сама возможность того, как Фреге объясняет “не-p” и “если p, то q”, из чего следует, что “не-не-p” обозначает то же самое, что и “p”, делает вероятным существование некоторого метода обозначения, в котором “не-не-p” соответствует тот же символ, что и “p”» (ЗЛ, С.125(3)). В Заметках по логике Витгенштейн разрабатывает основы такого символизма, основанного на би-полярности предложений (ab-запись), который в ЛФТ разовьётся в таблицы истинности.
Решение вопроса о символической нагрузке логических операторов у Витгенштейна базируется на его общей позиции, что предложения не являются именами (истинностных значений или комплексов). Это затрагивает как простые предложения, так и сложные, где последние включают помимо простых предложений логические операторы. Такое решение вопроса не укладывается в концепции Фреге и Рассела, для которых сложные предложения также являются именами. Первый считает, что значение подобного имени находится в функциональной зависимости от истинностных значений простых предложений и значения логической константы. Второй говорит о том, что значение сложного предложения включает атомарные комплексы и логический объект, а потому, в свою очередь, является комплексным объектом, образующим значение комплексного имени. Для Витгенштейна же сложное предложение не является именем, так же как и простое. Фундаментальное решение вопроса, что факты символизируются фактами, распространяется и на сложные предложения. Правда, если для простых предложений таким фактом служит особое соотношение имён объектов, то для сложных предложений в качестве факта выступает соотношение полюсов предложения. Предложения биполярны, т.е. могут быть как истинными, так и ложными. Но если для простых предложений возможность предложения быть истинным и ложным предопределяет то, каким образом ведут себя факты согласно логической форме, устанавливающей соотношение объектов, соответствующих собственным именам, которые входят в предложение, то для сложных предложений таким фактом служит соотношение истинностных полюсов сложного предложения с истинностными полюсами простых предложений, из которых оно построено. Предложение ‘р’ Витгенштейн предлагает записывать как a-p-b, где a и b суть полюса, указывающие на биполярность предложения, тогда «символизирующий факт в a-p-b есть то, что говорит о том, что а находится слева, а b - справа от p» (ЗЛ, С.116(7)). Полюса предложения несут функциональную нагрузку, но не вводят в знак ничего нового, их смысл полностью предопределён смыслом самого предложения. «Смысл ab-функции предложения р есть функция смысла предложения р» (ЗЛ, С.128(7)). Соотношение истинностных полюсов предложений при любой интерпретации имеет совершенно иной характер, чем соотношение объектов в предложении, а значит, ab-функции требуют иной интерпретации, чем обычные отношения и свойства. Полюса отражают возможность истинностно-истинностных преобразований. Этим их логическая форма отличается от логической формы простых предложений. Повторим ещё раз: если форма простого предложения задаёт образец различения фактов, образованных значениями имён, из которых оно построено, то форма сложного предложения – это образец различения фактов, которыми являются сами предложения. «ab-функции используют различение фактов, которое выдвигают их аргументы, для того чтобы произвести новые различения» (ЗЛ, С.129(1))[96]. Рассмотрим, как это осуществляется[97].
Итак, с каждым предложением р Витгенштейн соотносит полюса a и b, записывая его как a-p-b. Соотнесение произвольно, но если порядок полюсов зафиксирован, то его необходимо придерживаться в дальнейшем. Так, например, если a-p-b говорит р, то b-p-a не говорит ничего, этот символ не является отрицанием р. Что же является отрицанием? При объяснении отрицания необходимо руководствоваться положением, которое Витгенштейн считает фундаментальным: «В не-p, p - в точности то же самое, как если бы оно стояло одно» (ЗЛ, С.118(1)). Характер отрицания проясняется, если учесть, что в качестве значения предложениям р и ~р соответствует один и тот же факт, который одно из них делает истинным, а другое ложным[98]. Поэтому можно сказать, что смысл отрицания состоит в изменении полюсов предложения. Внутренний, т.е. относящийся непосредственно к предложению р, полюс а меняется на b, а полюс b на а. Таким образом, собственный знак для отрицания представляет собой b-a-p-b-a[99]. Символ же вида a-a-p-b-b есть тот же символ, что и a-p-b; поскольку здесь новые полюса относятся к той же стороне p, что и старые, смысл предложения не изменяется и ab-функция исчезает автоматически. Таким образом, ab-запись устанавливает соответствия новых полюсов с исходными полюсами. «Всё содержание этой записи сводится к установлению соответствия внешних полюсов с полюсами атомарных предложений» (ЗЛ, С.116(4)). Поскольку ab-функции атомарных предложений сами представляют собой предложения, а стало быть, являются биполярными, на них также можно осуществлять ab-операции. В этом случае устанавливается соответствие новых внешних полюсов при посредстве предшествующих внешних полюсов с внутренними полюсами атомарных предложений. При этом соответствие самых внешних и самых внутренних полюсов является транзитивным и символ не изменяется в зависимости от того, каким образом, т.е. через какие полюса, новый полюс а соотнесён с внутренним а. Например, символ вида a-b-a-p-b-a-b есть тот же самый символ, как a-p-b.
Аналогичные соглашения касаются логических операций, относящихся к нескольким простым предложениям. Пусть дано n предложений. Тогда из n членов, каждый из которых является полюсом одного из n предложений (при этом каждый член относится только к одному из предложений), образуется n2 классов полюсов. Затем с каждым классом полюсов соотносится один из двух новых полюсов a или b. Например, символ
a
 |
![]()
a - p - b a - q - b
 |
b
можно рассматривать как соответствующий предложению ‘pÉq’. Здесь внешний полюс а соотнесён с классами полюсов {aa}, {ab} и {bb}, а внешний полюс b соотнесён с классом {ba}; если полюс а интерпретировать как истину, а полюс b как ложь, то это вполне будет соответствовать объяснению, которое Фреге и Рассел дают условной связи.
Запись, разработанная Витгенштейном, позволяет снять указанные выше проблемы, касающиеся многообразия символов с одним и тем же смыслом. К примеру, возьмём ‘р’, ‘~~р’, ‘~~~~р’ и т.д. В каком смысле их можно рассматривать как тождественные? С точки зрения ab-функций предложению ‘р’ соответствует символ a-p-b, предложению ‘~~р’ – символ a-b-a-p-b-a-b, а предложению ‘~~~~р’ – символ a-b-a-b-a-p-b-a-b-a-b. Согласно установленным правилам все эти символы являются одинаковыми, поскольку одинаково то, что в них символизирует. А именно, в них символизирует факт, что внешние полюса относятся к р одним и тем же способом. Аналогичным образом ab-запись молекулярных предложений (таких как ‘pÉq’, ‘pÚq’ и т.п.) позволяет снять проблему с тождественностью ‘р’, ‘pÚр’, ‘pÚ~~р’ и т.п., поскольку демонстрирует тождественность символизирующих в них фактов.
аb-запись позволяет по-новому охарактеризовать и ряд других проблем, в частности проблему неопределяемых. Один из существенных моментов теории неопределяемых состоит в том, что неопределяемые логики должны быть независимы друг от друга. Однако аb-запись молекулярных предложений показывает зависимость логических операций (например, × и ~) друг от друга в определении соотношения полюсов предложения, что показывает, например, ab-функция, соответствующая штриху Шеффера. Тем самым они не могут употребляться в качестве неопределяемых одновременно, как делал Рассел. То же самое касается и других, выбранных в качестве исходных, операций (скажем, É и ~ у Фреге). Из возможности выразить различные комбинации логических операций с помощью одной ab-функции и их взаимозаменяемости к тому же следует, что совокупность логических операторов не является комплексным символом, как можно было бы подумать, если рассматривать их в качестве логических констант. Комбинации символов ‘~~’ в ‘~~р’ или ‘Ú~’ в ‘рÚ~q’ не соответствует ничего комплексного; она просто отражает общий способ соотнесения истинностных полюсов. Сходные проблемы возникают и в области общих предложений. «В случае мнимых переменных по отношению к старым неопределяемым – те же самые возражения, что и в случае молекулярных функций. Применение ab записи к предложениям с мнимыми переменными проясняется, если мы заметим, что предложение “для всех х, fх”, например, должно быть истинным, когда fх истинно для всех х, и ложным, когда fх - ложно для некоторого х. Мы видим, что некоторый и все одновременно встречаются в записи, подходящей для мнимой переменной. Такая запись представляет собой для (х) fх: а - (х) - .a fх b. - ($x) - b, а для ($х) fх: а - ($х) - .а fх b. - (x) - b » (ЗЛ, С.118(4)). Выражения общности, таким образом, трактуются Витгенштейном с точки зрения соотнесения внешних и внутренних полюсов предложения, т.е. на одном уровне с логическими связками. Отсюда вытекают два важных следствия. Во-первых, выражения общности не могут трактоваться как неопределяемые особого рода и, следовательно, не являются константами. В частности, в качестве значения им не соответствует некая второпорядковая функция, как считал Фреге. Во-вторых, предложения общности (или с мнимыми переменными) не являются принципиально отличными от предложений других видов, как считали и Фреге, и Рассел. А значит, их можно построить способом, единообразным со способом построения всех других предложений. Последняя идея найдёт своё полное выражение в ЛФТ.
Поскольку аb-запись позволяет унифицировать рассмотрение всех неатомарных предложений, постольку в области логических операций возникает возможность по-новому поставить проблему неопределяемых. Так как ab-функции атомарных предложений сами являются биполярными предложениями, на них вновь можно осуществлять ab-операции. Причём ввиду транзитивности соответствия внешних полюсов с внутренними совершенно безразлично, какими будут опосредующие полюса; как уже говорилось, символизирующий факт от этого не меняется. Отсюда вытекает, что можно найти такую ab-функцию, повторное применение которой образовывало бы все возможные ab-функции. Тогда можно ввести общность ab-функций как общность всех тех функций, которые образованы применением данной функции. Такая функция соответствует, например, штриху Шеффера ‘p½q’ (т.е. ‘~p × ~q’). Действительно установлено, что всякая логическая операция может быть заменена повторным применением штриха Шеффера. Означает ли это, что символ ‘½’ должен рассматриваться как неопределяемая константа, в смысле Фреге и Рассела? Нет. «Функция p½q есть просто механическое приспособление для конструирования всех возможных символов ab-функций. Нам необходимо правило, в соответствии с которым мы можем образовать все символы ab функций для того, чтобы быть в состоянии сказать об их классе; и теперь мы говорим о них, например, как о тех символах функций, которые могут быть образованы повторным применением операции ‘½’. И теперь мы говорим: Для всех р и q, p½q говорит нечто неопределяемое о смысле тех простых предложений, которые содержатся в р и q» (ЗЛ, С.126(7)). Таким образом, символ ‘½’ есть лишь приспособление для унификации символизирующих фактов в ab-функциях. Он не несёт никакой материальной информации и не обозначает какого-либо особого логического объекта.
Таким образом, аb-запись обосновывает основную идею Витгенштейна, что «молекулярные предложения не содержат ничего такого, что не содержалось бы в их атомах; они не добавляют материальной информации сверх той, что заключена в их атомах» (ЗЛ, С.121(9)). То же самое касается общих предложений, поскольку их понимание очевидно зависит от понимания атомарных предложений. Разработка адекватного символизма для логических операций подтверждает априорную правдоподобность того, что «введение атомарных предложений фундаментально для понимания всех других видов предложений» (ЗЛ, С.130(2)). На это можно было бы возразить, что тогда предложения ‘p×q’ и ‘pÚq’ должны быть одинаковыми, поскольку одинаковы факты, которые соответствуют ‘p’ и ‘q’ в действительности и делают их истинными или ложными. Однако это было бы оправданным только в том случае, если бы предложения имели только значение. Возражение снимается тем, что предложения имеют ещё и смысл. Предложениям ‘p×q’ и ‘pÚq’ соответствуют не просто отдельные факты, а классы фактов, что обнаруживается при введении ab-функций, и класс фактов, делающий истинным ‘p×q’, очевидно отличается от класса фактов, делающего истинным ‘pÚq’. Поэтому хотя логических объектов и не существует, указанные предложения являются различными, только различие касается не материальной информации, а способов согласования их истинностных значений.
Отсюда вытекают важные онтологические следствия. Приписывая значения логическим константам, Фреге и Рассел подразумевали, что неатомарные предложения сообщают нам о мире нечто новое, поскольку включают такие элементы, которые имеют собственное содержание и не входят в атомарные предложения. Витгенштейн же утверждает, что «что бы ни соответствовало в реальности составным предложениям, оно не должно быть больше того, что соответствует составляющим их отдельным атомарным предложениям» (ЗЛ, С.121(2)). Последнее определяет специфику логического исследования. Логика не сообщает нам никакой материальной информации о мире, поскольку её предметом не являются какие-то объекты. Материальная информация содержится в атомарных предложениях, истинность и ложность которых установлена. Но, очевидно, не дело логики устанавливать, какие именно атомарные предложения являются истинными или ложными, поскольку она имеет дело не со значениями предложений (фактами), а с их смыслом, т.е. возможностью быть истинными и ложными. Поскольку «если бы мы образовали все возможные атомарные предложения, то мир был бы полностью описан, если бы мы установили истинность или ложность каждого» (ЗЛ, С.127(7)), постольку логика не имеет отношения к описанию мира. Она не является наукой, аналогичной другим наукам.
Следствием изменения понимания сущности предложения и упразднения логических констант был пересмотр характера предложений логики. Витгенштейн утверждает, что «правильное объяснение должно дать логическим предложениям исключительное положение, противоположное всем другим предложениям» (ЗЛ, С.131(11)). Согласно переписке с Расселом одна из первоначальных интуиций, инициировавших поиски, была связана с тем, что предложения логики содержат только мнимые переменные. Эта идея тесно связана со способами записи предложений логики, которые использовали Фреге и Рассел. Стремясь установить всеобщность логических законов, они употребляли действительные переменные. Фреге, например, вводя буквы для обозначения предложений, оправдывался тем, что они должны служить для выражения всеобщности[100]. Ещё более свободно действительные переменные применял Рассел, формулируя с их помощью ряд специальных аксиом, например аксиому сводимости. С точки зрения Витгенштейна, такой способ употребления переменных приводит как минимум к двум неприемлемым следствиям. Во-первых, использование действительных переменных вместо имён вызывало впечатление, «как если бы логика имела дело с предметами, лишёнными всех свойств, кроме комплексности» (ЗЛ, С.131(7)); а это влечёт ошибочное мнение, что логика несёт определённую материальную информацию, заключённую в её предложениях. Во-вторых, использование действительных переменных вносило путаницу в различение логических форм и предложений, хотя, с точки зрения и Фреге, и Рассела, это различие фундаментально. В отличие от предложения, логическая форма не может иметь истинностного значения, что как раз и определяется входящими в неё неопределёнными элементами. Логическая форма указывает на соответствующую функцию, где с помощью переменных отмечены аргументные места. Чтобы получить предложение, должна быть определена область значения аргументных мест либо с помощью имён, либо с помощью кванторов. Поскольку предложений, содержащих действительные переменные, не существует, постольку, считает Витгенштейн, «символы, называемые предложениями, в которых “встречаются переменные”, на самом деле вообще не являются предложениями, но только схемами предложений, которые становятся предложениями только тогда, когда мы заменяем переменные константами. Нет предложений, выраженных посредством “x = x”, так как “x” не имеет значения. Но есть предложение “(x) .x = x” и есть такие предложения, как “Сократ = Сократ” и т.д. В книгах по логике не должны встречаться переменные, но только общие предложения, оправдывающие использование переменных» (ЗЛ, С.123(5)). Это наблюдение имеет радикальное следствие для интерпретации логических предложений. Возьмём, например, аксиому сводимости. В расселовской формулировке она говорит, что произвольно взятой функции соответствует некоторая предикативная функция. Поскольку в этой формулировке аксиомы присутствует действительная переменная, указывающая на произвольно взятую функцию, постольку, согласно Витгенштейну, она не может считаться настоящим предложением, а представляет собой только схему. Предложением данная аксиома стала бы только тогда, когда означенную функцию можно было бы превратить в мнимую переменную с помощью знака всеобщности. Только в этом случае из неё можно было бы вывести какие-то другие предложения. Однако если, следуя этому требованию, в формулировку ввести всеобщность, аксиома приобретает несколько другое содержание, поскольку утверждает, что всякой функции соответствует некоторая предикативная функция. Но последнее утверждение если и можно использовать, то только в ином смысле, чем первоначальную аксиому сводимости. Указывая на этот факт в одном из писем к Расселу, Витгенштейн вообще сомневается в оправданности этой аксиомы, в частности, он пишет: «В целом же аксиома кажется мне в настоящий момент просто жонглёрским трюком» (ПР, С.150).
Ещё один важный пункт для понимания переменных относится к трактовке сущности логической формы, которая определяет биполярность предложения. Логические законы (типа закона исключённого третьего или недопущения противоречия) в объяснении Фреге и Рассела являются существенно истинными, что вытекает из объяснения смысла логических констант[101]. Для Витгенштейна это служит свидетельством, что логические предложения в старой записи не являются предложениями в собственном смысле, поскольку предложения биполярны, т.е. могут быть как истинными, так и ложными. «Бессмысленны знаки, имеющие форму “pÚ~p”, но не предложение “(p)pÚ~p”. Если я знаю, что эта роза – либо красная, либо не красная, я не знаю ничего» (ЗЛ, С.128(2)). Форма pÚ~p не имеет значения, поскольку соответствующая ей функция, которая должна, подобно линии, разделять точки на плоскости на правые и левые, этого не делает. Она указывает на единственно возможное истинностное значение и в этом отношении вполне аналогична имени. Конечно, если считать предложения именами, то в этом нет ничего страшного. Более того, такая позиция оправдывает введение таких логических объектов, как истина и ложь, поскольку ничего другого нельзя предложить в качестве значения логических предложений. Но предложения не имена, а факты. И если законы логики всё-таки являются предложениями, в их структуре должна быть предусмотрена возможность различения. В Заметках по логике Витгенштейн видит решение проблемы в введении общности. Предложение ‘(p)pÚ~p’ не бессмысленно, поскольку содержит не бессмысленную функцию ‘pÚ~p’, а функцию ‘pÚ~q’. При этом данное предложение, видимо, должно пониматься не относительно фактов, а относительно самих предложений. В нём не содержится утверждений типа “Эта роза – либо красная, либо не красная”. Оно говорит, что каждое предложение является либо истинным, либо ложным.
Пересмотр характера логических предложений сопровождается пересмотром их функции. Рассматривая теорию Фреге, мы уже указывали, что для него предложения логики выступают способами оправдания дедукции. В этом смысле они представляют собой нечто иное, как предписания, устанавливающие возможную связь предложений, отталкиваясь от смысла логических союзов. Витгенштейн же считает, что «дедукция протекает только в соответствии с законами дедукции, но эти законы не могут оправдать дедукцию» (ЗЛ, С.115(4)). В утверждении, что законы дедукции не могут оправдать дедукцию под ‘оправданием’, видимо, подразумевается то, как соотносятся научный закон и предложение, описывающее отдельный факт. Когда мы говорим, что тело а притягивается к телу b с силой F, то истинность данного утверждения мы оправдываем ссылкой на закон гравитации. В этом случае первое и второе связаны законом достаточного основания в форме: “Истинность закона обеспечивает истинность его частных случаев”. Материальная информация закона имплицирует здесь материальную информацию предложения о факте. Если принять точку зрения Фреге на логические предложения, то же самое можно было бы сказать о законах дедукции. Их содержание, связанное с установлением смысла логических функций, оправдывает частное применение последних в выводах различного рода[102]. Именно поэтому, как указывалось выше, истину, заключённую в каком-либо виде умозаключения, можно высказать одним суждением в следующей форме: “Если имеет место М и если имеет место N, то имеет место и L”. Истинность данного суждения, по Фреге, служит достаточным оправданием соответствующего вывода. Таким образом, материальная информация о логических функциях, заключённая в предложениях логики, оправдывает возможность соответствующей логической связи, и в этом смысле закон дедукции служит достаточным основанием самой дедукции. На основании текста Заметок по логике трудно решить, имел ли в виду Витгештейн именно такую интерпретацию[103] и если – да, то на каких именно доводах основывалась его критика, но если данное понимание его мысли верно, то можно привести ещё один аргумент в пользу того, что такой способ оправдания никакой роли в логическом выводе не играет. Этот аргумент основан на парадоксальном результате, который получен Л.Кэрролом[104], и демонстрирует независимость процедуры вывода от ‘оправдывающего’ его закона дедукции.
Л.Кэррол рассуждает следующим образом. Предположим, даны две посылки p, q и заключение r. Если формулировка посылок удовлетворяет структуре вывода, которая признаётся правильной, мы обязаны, при условии истинности p и истинности q, признать истинность r. Запишем этот вывод в форме “p, q |¾ r”. Однако поскольку в данном случае ничто не мешает тому, чтобы признать истинность посылок, отказываясь признать истинность заключения, необходимость логического вывода должна быть основана на признании истинности условного высказывания “Если p и q истинны, то r истинно”. Таким образом, в структуру вывода мы обязаны ввести ещё одну посылку, имеющую форму приведённого выше условного высказывания (обозначим её “s”). Таким образом, предполагаемый логический вывод приобретает форму “p, q, s |¾ r”. Однако достоверность данного вывода по аналогии с предыдущей процедурой мы должны основать на признании истинным следующего условного высказывания: “Если p, q, s истинны, то r истинно”, которое, в свою очередь, также должно рассматривать как посылку интересующего нас вывода. Следовательно, первоначальный вывод мы должны (если вновь полученное условное высказывание обозначить как “t”) записать в форме “p, q, s, t |¾ r”. Как видно, этот процесс может быть продолжен до бесконечности. Парадоксальный результат в данном случае связан с бесконечным регрессом в стремлении получить хоть какой-нибудь вывод, если мы принимаем логическое предложение, оправдывающее вывод, в качестве одной из посылок самого этого вывода, что мы обязаны были бы сделать, если бы вместе с Фреге рассматривали законы дедукции как достаточное основание самой дедукции, признавая наличие заключённой в них материальной информации.
Кроме того, законы дедукции не являются примитивными предложениями логики и в том смысле, в котором примитивными предложениями геометрии являются аксиомы геометрии. Аксиомы геометрии фиксируют значение ‘примитивных понятий’ (точка, прямая, плоскость и т.п.), которое раскрывается в теоремах. В этом смысле аксиомы геометрии также оправдывают теоремы, поскольку в последних только раскрывается то, что заложено в первых. Что касается законов дедукции, то единственное, что они могли бы фиксировать, – это значение логических констант, но таковых, согласно Витгенштейну, не существует.
В пользу того, что предложения логики не являются примитивными, говорит и тот факт, что совокупность аксиом выбирается произвольно. Один и тот же вывод может быть ‘оправдан’ с помощью различных исходных утверждений. С другой стороны, одно предложение может быть выведено из других различными способами. Всё это свидетельствует об относительной взаимонезависимости законов дедукции и самой дедукции и говорит о том, что систематическая связь истин, проявленная в логике, должна пониматься совершенно иначе, чем это было у Фреге и Рассела. «Логические выводы действительно могут быть сделаны в соответствии с фрегевскими или расселовскими законами дедукции, но это не может оправдывать вывод; следовательно, они не являются примитивными предложениями логики. Если p следует из q, оно может также быть выведено из q, а “способ дедукции” безразличен» (ЗЛ, С.123(3)).
Существенной чертой Заметок по логике является и то, что предпринятый анализ приводит к изменению в понимании природы всего философского знания. Несмотря на то, что отдельные положения выглядят вполне аналогичными пониманию Рассела, контекст указывает, что интерпретироваться они должны совершенно иначе. Характеризуя структуру философии, Витгенштейн говорит: «Она включает логику и метафизику; логика – её основа» (ЗЛ, С.130(10)). Это положение, которое в рамках расселовской философии выглядит декларативно, так как логика ставится в зависимость от онтологических предпосылок, в частности связанных с теорией типов и теорией логических объектов, в контексте Заметок получает вполне конкретный смысл. Анализ специфики знаковых изображений приводит к устранению допущений, характеризующих структуру мира. Новое понимание неопределяемых не выходит за рамки символической комбинаторики; от бессмысленности должна предохранять структура самого языка, а не структура мира. Логика указывает на возможность онтологических импликаций, но не её дело судить о том, действительно ли мир является таковым, каков он есть. Ещё более решительно Витгенштейн высказывается за отказ от эпистемологических предпосылок, которые у Рассела связаны с теорией суждения и концепцией непосредственного знакомства. Теория познания не может мотивировать логические исследования; она проходит по разряду частных философских дисциплин; «теория познания есть философия психологии» (ЗЛ, С.130(11)). Тем более невозможно ставить анализ логических структур в зависимость от структур познавательных. Всё дело в том, что логика имеет дело не с так называемыми ‘универсальными законами мышления’, а с выразительными возможностями языка. Отсюда новым содержанием наполняется метод философии: «Недоверие к грамматике есть первое требование к философствованию» (ЗЛ, С.130(12)). Здесь речь идёт не просто о противопоставлении грамматики естественного языка логической структуре, выявленной с помощью совершенного искусственного языка. Содержание Заметок по логике говорит скорее в пользу того, что грамматика искусственного языка должна вызывать недоверие не в меньшей степени, чем грамматика языка естественного. Методическая цель философии должна быть совершенно иной. Если Фреге и Рассел стремятся заменить естественный язык искусственным с тем, чтобы адекватно, свободным от эквивокаций образом описать познавательные структуры, то для Витгенштейна целью философии становится анализ грамматики языка как таковой. Отсюда вытекает как то, чем философия не может быть, так и то, чем она должна быть:
Негативный тезис: «Философия не даёт картины реальности. Философия не может ни подтвердить, ни опровергнуть научные исследования» (ЗЛ, С.130(8,9)).
Позитивный тезис: «Слово “философия” всегда должно обозначать что-то стоящее над или под, но не наряду с естественными науками. Философия является доктриной логических форм научных предложений» (ЗЛ, С.131(2,3)).
В развитой форме эти тезисы послужат основой ЛФТ.
2.2. “Заметки, продиктованные Дж.Э.Муру в Норвегии”
Следующий важный для понимания генезиса концепции Витгенштейна текст относится к тому времени, когда он поселился в Норвегии в местечке Скъёлден, где жил на уединённой ферме на берегу фьорда Согн с октября 1913 года почти до начала Первой мировой войны. Позднее Витгенштейн вспоминал это время как одно из наиболее плодотворных в своей жизни. Следуя настоятельным приглашениям, его уединение нарушил Дж.Э.Мур, который гостил у него с 29 марта по 14 апреля 1914 года. Напряжённая работа результировалась в том, что принято называть Заметками, продиктованными Дж.Э.Муру в Норвегии. Характер заметок отвечает приёму, которым Витгенштейн пользовался впоследствии. Иногда он диктовал материал ученикам или слушателям, а затем вносил в него изменения. Как и в Заметках по логике в Заметках, продиктованных Муру отсутствует единый план. Они представляют собой совокупность положений, сформулированных в ответ на долгое время обдумываемые вопросы. Предположительным мотивом их написания может служить стремление сообщить со случившейся оказией результаты своей работы Расселу, которому в письме, датируемом приблизительно маем-июнем 1914 года, Витгенштейн пишет: «Моя работа значительно продвинулась за последние четыре-пять месяцев ... Я объяснил её в деталях Муру, когда он был у меня, и он сделал различные заметки. Поэтому вы можете всё узнать от него. В моей работе много нового. – Лучший способ понять её вполне был бы, если бы вы прочитали заметки Мура сами»[105].
Заметкам, продиктованным Дж.Э.Муру предшествовало несколько важных писем к Расселу. Витгенштейн продолжает размышлять над сущностью предложений логики и сообщает: «Мне пришла на ум совершенно новая идея: новые проблемы, возникшие в теории молекулярных предложений и теории вывода, приобретают новый и очень важный аспект. Одним из следствий моей новой идеи будет – я думаю – то, что вся логика вытекает только из одного предложения!» (ПР, С.151)) Из письма не вполне ясно, что это за предложение. Однако на основании вышеизложенного оно, очевидно, не может рассматриваться как закон дедукции, оправдывающий вывод. Это предложение не может быть и утверждением всеобщности, из которого следуют все остальные предложения логики как подпадающие под него частные случаи. Чем же оно может быть? Последующие письма показывают, что основным в трактовке логических предложений становится не всеобщность, как было в Заметках по логике. Всеобщность, связывающая действительные переменные, может характеризовать и предложения естествознания. Но логика должна оказаться совершенно иной наукой. И Витгенштейн стремится разработать новый критерий, позволяющий отличать предложения логики от предложений всех других наук.
Этот критерий основан на делении предложений на ‘сущностно’ и ‘случайно’ истинные, что связано со спецификой их истинностной оценки. Дело в том, что истинность или ложность ряда предложений, обычно рассматривающихся в качестве законов логики, может быть установлена исключительно из их символических особенностей. Это как раз и указывает на сущностную истинность. Разработке данного вопроса способствует предложенная в Заметках по логике аb-запись. Способ приписывания предложению истинностных полюсов показывает, что для установления сущностной истинности предложения достаточно одного символического правила, которое формулируется следующим образом: «Если b-полюс связан только с такими группами внутренних полюсов, которые содержат противоположные полюса одного предложения, то всё предложение является истинным, оно является логическим предложением» (ПР, С.153). Рассмотрим, например, так называемый закон исключённого третьего ‘pÚ~p’ и представим его в ab-записи, устанавливая соотношение внутренних полюсов с внешними. Полученный символ будет иметь следующий вид:
a
 |
![]()
![]()
a – p – b b – a – p – b – a
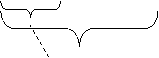 |
b
Здесь ‘p’ записываем как a-p-b; отрицание изменяет полюса на противоположные, а значит, ‘~p’ будет иметь вид b-a-p-b-a. Смысл знака ‘Ú’ в том, что ‘p’ и ‘~p’ должны соответствовать разные полюса, на что мы указываем, сопоставляя классам полюсов {ab} и {ba} внешний а-полюс, и не могут соответствовать одинаковые полюса, на что мы указываем, сопоставляя классам полюсов {aa} и {bb} внешний b-полюс. Таким образом, в ab-записи ‘pÚ~p’ удовлетворяет сформулированному правилу, а значит, является сущностно истинным.
Аналогичное правило можно установить для предложений, которые рассматриваются как сущностно ложные. Различие здесь касается координации полюсов; в сущностно ложном предложении с противоположными полюсами одного предложения должен быть связан а-полюс. Возьмём, например, ‘р× ~p’. В ab-записи соответствующий ему символ будет выглядеть следующим образом:
b
 |
![]()
![]()
a – p – b b – a – p – b – a
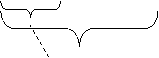 |
a
Запись ‘р’ и ‘~p’ совпадает здесь с предыдущим случаем. Но смысл знака ‘×’ в том, что ‘р’ и ‘~p’ должны соответствовать одинаковые полюса и не могут соответствовать разные, что выражается с помощью внешних полюсов. Значит, согласно правилу это предложение является сущностно ложным.
Правила, позволяющие распознавать сущностную истинность, распространяются и на другие случаи, в том числе и с большим, чем два, числом аргументов. Можно показать, что сущностно истинными являются все предложения – как исходные (аксиомы), так и производные (теоремы), с помощью которых Фреге и Рассел строят свои варианты исчисления высказываний, а сущностно ложными – все предложения, которые им противоречат. При интерпретации а-полюса и b-полюса как истины и лжи соответственно ab-запись показывает, что предложения, удовлетворяющие первому правилу, не могут быть ложными, поскольку предложение должно быть истинным или ложным, а предложения, удовлетворяющие второму правилу, не могут быть истинными, поскольку одно и то же предложение не может быть истинным и ложным одновременно.
Предложения, не удовлетворяющие сформулированным правилам, не являются сущностно истинными или сущностно ложными, они – случайны. Таковым, например, является предложение ‘pÉ~р’. Соответствующий ему символ таков:
a
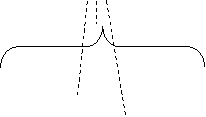 |
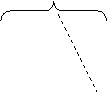
a – p – b b – a – p – b – a
b
Здесь координация полюсов не удовлетворяет установленным правилам. Это предложение может быть как истинным, так и ложным в зависимости от действительного значения ‘p’, а значит, оно является случайным.
Данный подход может быть, mutatis mutandis, распространён и на все другие предложения, в частности предложения с общностью (кванторами), на что указывает, как говорилось выше, возможность их представления с помощью ab-записи. Например, предложение ‘(х):х=х.É.($у).у=у’ является сущностно истинным, а предложение ‘($х)х=х’ – случайно истинным.
аb-запись с применением приведённых правил однозначно задаёт критерий различения сущностно истинных или сущностно ложных предложений и случайных предложений. Существенность истинностной оценки служит способом распознавания логических предложений: «‘Логическое’ предложение, есть предложение, которое является либо сущностно истинным, либо сущностно ложным» (ПР, С.153). Такое понимание логических предложений приводит к нескольким важным следствиям. Во-первых, сущностную истинность или ложность можно опознать исключительно с помощью соответствующей записи; «предложения логики - и только они - имеют свойство выражать свою истинность или ложность в самом знаке» (ПР, С.153). На основании этого Витгенштейн характеризует сущностно истинные предложения как тавтологии, а сущностно ложные – как самопротиворечия. Эти два случая исчерпывают совокупность логических предложений. Во-вторых, поскольку существует один метод доказательства и опровержения тавтологий, основанный на одном символическом правиле, постольку должно существовать одно предложение, из которого вытекают все логические предложения. На возможность такого предложения указывает то, что истинность всех логических предложений устанавливается a priori, с помощью исследования самих знаков, и не требует обращения к действительности. В-третьих, возникает, наконец, возможность однозначного определения того, что нельзя относить к логическим предложениям. «Своеобразная (и наиболее важная) характеристика не-логических предложений в том, что их истинность не может быть увидена из самого знака предложения» (ПР, С.153). Если, например, взять предложение ‘Мейер – глуп’, то из самого знака нельзя узнать, является оно истинным или ложным. Точно также истинность предложения ‘($х)х=х’, которое Рассел рассматривает как утверждение о существовании по крайней мере одной вещи, нельзя установить из одного знака, необходимо обращение к действительности.
Последнее следствие приводит к пересмотру характера некоторых предложений, которые Рассел считал логическими. Здесь нужно учесть, что ‘сущностно истинные’ не всегда совпадает с тем, что часто рассматривается как ‘необходимые’, поскольку истинность необходимых предложений может зависеть от содержания. Необходимо истинными Рассел, например, считает аксиому бесконечности и аксиому сводимости, относя их к логическим предложениям. Витгенштейн же имеет в виду принципиально иное. Он говорит: «Все предложения логики есть обобщения тавтологий, и все обобщения тавтологий есть предложения логики. Кроме них нет логических предложений. (Я рассматриваю это как определение.)» (ПР, С.154). Правильность аксиомы бесконечности и аксиомы сводимости нельзя установить из одних знаков. Их истинность не может быть обоснована с помощью приведённого символического правила, и нет никакого логического предложения (т.е. тавтологии), из которых они могли бы быть выведены. Следовательно, они не являются логическими предложениями, а требуют обращения к действительности. Но ничто не препятствует тому, чтобы вообразить такой мир, в котором эти утверждения не имеют места. Вполне допустим мир, где число предметов было бы меньшим, чем À0, или мир, где имелось бы непредикативное отношение, с которым нельзя было бы соотнести предикативное отношение. Однако, как считает Витгенштейн, не дело логики решать, совпадает ли мир, в котором мы живём, с этими мирами или же нет. Аксиома бесконечности и аксиома сводимости если и являются истинными, то являются таковыми ‘благодаря счастливой случайности’. Они относятся не к ‘сущностно’, а к ‘случайно’ истинным предложениям.
Объясняя применение ab-записи к распознаванию логических предложений, Витгенштейн прекрасно осознаёт как её недостатки, так и её достоинства. Недостатки касаются затруднений, которые связаны с интерпретацией предложений более чем с одной переменной. Дополнительных объяснений требуют и предложения с общностью, а также предложения, в которых используется тождественность имён. Поэтому фундаментальной технической проблемой логики является проблема: «Как может быть сконструирована запись, которая сделает каждую тавтологию распознаваемой как тавтологию одним и тем же способом?» (ПР, С.153) Её решение в общем виде будет представлено в ЛФТ. К несомненным же достоинствам ab-записи относится то, что, даже если она не вполне корректна, она всё же демонстрирует принципиальную возможность распознавания логических предложений исключительно с помощью знаков, что указывает на отличительные особенности этих предложений. Для Витгенштейна теоретическое объяснение сущности тавтологий – это «основной вопрос всей логики» (ПР, С.156). Этот вопрос как раз и является главной темой Заметок, продиктованных Дж.Э.Муру.
Наиболее значительное достижение этого текста – крайне важная концепция различения между ‘показанным’ и ‘сказанным’. На ней базируется ряд идей, из которых к наиболее фундаментальным относятся следующие:
– характеристика логических предложений как ‘тавтологий’, которые показывают внутренние отношения, но ‘сами не говорят ничего’. Внутренние отношения затрагивают, с одной стороны, свойства языка, с другой стороны, свойства мира в целом, а потому характеризуют единство логической формы языка и мира. Это приводит к двум замечательным следствиям: (1) в языке, в котором нечто может быть высказано, можно высказать всё; (2) невозможно сконструировать такой язык, который говорил бы о логической форме, поскольку тогда этот язык должен был бы быть нелогичным;
– отсюда вытекает концепция логики как метода описания тавтологий, раскрывающего логическую форму их конституент. В отличие от Рассела, который, отталкиваясь от теории внешних отношений и теории суждения, считал, что логика описывает способы связи предложения со своими конституентами, Витгенштейн утверждает, что тавтологии являются формами доказательств, показывающими внутренние отношения между предложениями. Логические предложения существенно отличаются от ‘действительных’ предложений, поскольку не являются истинными или ложными в обычном смысле. Доказательство тавтологии на самом деле не является установлением её истинности, а лишь показывает, что она относится к логическим предложениям;
– на различии показанного и сказанного основан окончательный разрыв с расселовской теорией типов. Символическая запись сама по себе показывает, что знаки соотносятся с различными классами предметов. Любая попытка явно указать значение знака является бессмысленной, поскольку вид знак, зависящий от его способа вхождения в выражение, полностью определяет (показывает) класс предметов, который он может обозначать. Поэтому предложения, эксплицитно приписывающие значение знакам, бессмысленны или излишни, поскольку они пытаются установить то, что ‘показано самим символом’.
Для прояснения сущности тавтологий вновь обратимся к особенностям ab-записи. Напомним, что согласно Витгенштейну приписывание полюсов предложению носит произвольный характер и, следовательно, полюса одного и того же предложения могут интерпретироваться различно. Отсюда вытекает одно затруднение. Биполярность предложений и произвольность интерпретации а-полюса и b-полюса создаёт впечатление, что истина и ложь совершенно симметричны и относятся к одному и тому же уровню. Под симметричностью здесь подразумевается возможность противоположной интерпретации значков без изменения целого символа, который из них построен. Если задать различные значения значкам ‘а’ и ‘b’, то один и тот же ab-символ может соответствовать разным предложениям. Например, символ
a
 |
![]()
![]()
a – p – b b – a – p – b – a
 |
b
может рассматриваться как ‘p×q’, если а-полюс интерпретировать как истину или как ‘pÚq’, если а-полюса интерпретировать как ложь. Возникает вопрос, откуда тогда привходит различие в символ, ведь соответствующие ему предложения явно обладают разными свойствами? Наиболее очевидный ответ, что различие предопределено здесь разной интерпретацией ‘a’ и ‘b’, проблемы не решает, поскольку выходит за рамки самих знаков. «Интерпретация символизма не должна зависеть от того, что символам одних и тех же типов придаётся различная интерпретация» (ЗМ, С.139(5)). Различие в ab-символе предложений ‘p×q’ и ‘pÚq’ обнаруживается лишь при рассмотрении отдельных значков ‘а’ и ‘b’, но понимание символизма в целом не должно зависеть от возможности различного понимания его компонентов, поскольку «если система записи должна быть правильной, то должно быть возможно видеть из самих символов, что между полюсами есть некоторое сущностное различие» (ЗМ, С.139(4)). Указанную проблему как раз и решают тавтологии.
Симметричность полюсов имеет пределы независимо от их интерпретации, поскольку когда задаются правила приписывания значков ‘а’ и ‘b’, задаётся и то, символы какого вида должны быть логическими предложениями, а это уже не является произвольным. Описание указанного выше символа относительно ‘а’ и ‘b’ само по себе симметрично, однако оно должно рассматриваться не само по себе, а относительно того, какие предложения с точки зрения правил, регулирующих данное описание, будут тавтологиями. Если, например, предложение ‘~(p×~р)’ согласно установленным правилам ab-записи является тавтологией, то приведённый ab-символ с необходимостью соответствует ‘p×q’. Тавтологии вносят асимметрию. С точки зрения такой асимметрии приведённый выше символ уже не может рассматриваться в рамках заданной символической записи как соответствующий ‘pÚq’. Последнему предложению будет соответствовать ab-символ, где внешние а-полюс и b-полюс поменялись местами. Таким образом, ‘p×q’ и ‘pÚq’ соответствуют два символа, и в одном из них стоит внешняя отметка ‘a’, а в другом, внешняя отметка ‘b’. Между этими символами установлена необходимая внутренняя связь, которая уже не зависит от нашего произвола, а определяется чертами символизма в целом. Как бы не интерпретировались ‘a’ и ‘b’, ab-символы ‘p×q’ и ‘pÚq’ всегда будут различными. Внутренняя связь различных символов характеризует логическую форму символизма, которая закрепляется в тавтологиях.
Из приведённого объяснения ясно, как полюса предложения приобретают сущностное различие. Различие затрагивает здесь не непосредственно видимую форму знака. В ab-записи ‘p×q’ и ‘pÚq’, если обращать внимание только на значки, действительно могут показаться символами одинаковой логической формы. В этом случае всё ограничивается тем, как понимать ‘a’ и ‘b’. Но из одного такого различия не вытекает ничего, поскольку оно на самом деле не затрагивает логическую форму. Различие обнаруживается не тогда, когда мы придаём интерпретацию отдельным отметкам частного знака, а тогда, когда устанавливаем правила распознавания тавтологий. Как только зафиксировано, символ какого вида является тавтологией, «отсюда сразу же следует как то, что любой другой символ, который отвечает тому же самому описанию, есть тавтология, так и то, что любой символ, который не отвечает описанию, не есть тавтология; и будучи зафиксированным, это больше не является произвольным в отношении любого другого символа, независимо от того, является он тавтологией или нет» (ЗМ, С.141(3)).
Асимметрия полюсов касается, и тавтологий и самопротиворечий. Если обращать внимание только на форму символа, то при соответствующем изменении интерпретации полюсов приведённые выше ab-символы тавтологии ‘pÚ~p’ и противоречия ‘p×~p’ также можно заменить друг на друга. Однако даже если мы и можем использовать символ тавтологии вместо символа противоречия, этого нельзя сделать в одном и том же отношении. Здесь речь идёт уже не просто о различии в значках ‘a’ и ‘b’. Несмотря на одинаковую форму знаков, символизирует в них различное, они не совпадают по логической форме. Дело в том, что тавтология и самопротиворечие отражают различные внутренние отношения знаков, и если асимметрию вводить с помощью самопротиворечий, символическая система в целом будет демонстрировать свойства иные, чем свойства системы, где асимметрия вводится с помощью тавтологий. И если от логических предложений, поскольку они вносят сущностное различие в полюса предложений, зависит интерпретация случайно истинных предложений, то интерпретация самих тавтологий как тавтологий есть уже «интерпретация логической формы, а не придание значения отметке опеределённых очертаний» (ЗМ, С.140(5)). Устанавливая, какие предложения являются тавтологиями, мы задаём то, что в системе записи не является произвольным, несмотря на произвольность интерпретации отдельных элементов этой системы. Когда фиксируется, что символ является тавтологией, а не самопротиворечием, тем самым не придаётся значение ‘a’ и ‘b’, а указывается на то, что способ связи полюсов с предложением символизирует совершенно иначе, нежели в том случае, если бы этот символ рассматривался как противоречие. И впредь этот способ связи должен интерпретироваться одинаково во всех других символах[106]. В этом смысле логические предложения могут рассматриваться как постулаты, т.е. как то, «что “затребовано” нами; так как мы требуем удовлетворительной системы записи» (ЗМ, С.145(5)). И хотя символ для тавтологии можно заменить символом для самопротиворечия, этого нельзя сделать в рамках одного и того же языка, поскольку в этом случае символическая система демонстрировала бы другие свойства. Таким образом, адекватное понимание записи возникает не тогда, когда задаётся понимание отдельных значков; «интерпретация формы символизма должна быть зафиксирована, когда задаётся интерпретация её логических свойств» (ЗМ, С.141(1)).
Такое понимание логических предложений объясняет, почему их истинность или ложность может быть опознана из самих знаков. В тавтологиях и самопротиворечиях фиксируются свойства знаковой системы, и, следовательно, при характеристике предложения как логического не требуется обращения к реальности. Поэтому предложения логики бессодержательны, они не несут никакой материальной информации, так как предложение, содержащее материальную информацию, определяется совокупностью условий истинности, приводящих его в соответствие с действительностью. Однако ‘бессодержательность’ в данном случае не означает ‘бессмысленность’ в том значении этого слова, когда говорят о бессмысленности предложения, включающего слова, которые не имеют значения. Как считает Витгенштейн, хотя логические предложения ничего не говорят, они «показывают логические свойства языка», которые можно увидеть, просто глядя на них, тогда как «в собственно предложении нельзя видеть, что является истинным, глядя на него» (ЗМ, С.133(1,2). Более того, поскольку язык стремится выразить всё, свойства, которыми он обладает, отражают определённые свойства мира, и тавтологии, показывая логические свойства языка, характеризуют логические свойства универсума, так как определяют возможность интерпретации знаковой системы в целом. Логические свойства языка именно показываются, потому что нельзя сказать о том, что они собой представляют. Для того чтобы что-либо сказать о таких свойствах, необходим язык; но он либо уже обладает этими свойствами, и тогда возникает порочный круг, либо он не получил таких свойств, но тогда это уже не будет собственно языком, поскольку нельзя сконструировать нелогичный язык. «Язык, который может выразить или сказать всё, что может быть сказано, этот язык должен иметь определённые свойства; и когда это случается, то, что он имеет эти свойства, больше не может быть сказано ни в этом языке, ни в любом языке» (ЗМ, С.133(4))[107]. Эти свойства могут быть лишь систематическим образом показаны логическими предложениями.
То, каким образом логические предложения проясняют свойства языка, показывает уже асимметричность, которую они вносят в интерпретацию полюсов предложения. Внутренние отношения знаков относятся не к тому, что может быть сказано отдельным предложением, но показывается всей знаковой системой в целом, когда мы задаём, что именно считать тавтологией. Чтобы продемонстрировать, какой именно тип отношений систематически показывается тавтологиями, вернёмся к рассмотренному выше примеру с ‘p×q’ и ‘pÚq’. Как уже указывалось, несмотря на сходство символов этих предложений в ab-записи, когда их рассматривают сами по себе, эти предложения обладают разными свойствами. Например, из первого предложения логически следует предложение ‘q’, а из второго – нет. Однако само по себе предложение ‘p×q’, представленное в ab-записи, не даёт возможности видеть, что из него следует ‘q’, поскольку, если бы мы произвольно изменили интерпретацию полюсов, этот же символ соответствовал бы ‘pÚq’, из которого ‘q’ не следует. Но, устанавливая правила соответствия полюсов, мы указываем на то, какие символы являются тавтологиями. Когда мы фиксируем, что знак вида ‘(p×q)Éq’ в ab-записи является тавтологией, из этого факта и из ab-символов для ‘p×q’ и ‘q’ непосредственно видно, что они связаны внутренним отношением, называемым отношением логического следования. Логические предложения показывают свойства языка, демонстрируя, что его действительные предложения связаны определённым образом.
В общем виде эту демонстрацию можно представить следующим образом. Согласно установленным правилам ab-записи задаётся определённое описание символа, который рассматривается как логическое предложение. Затем устанавливается, что символы, которые соответствуют действительным предложениям и которые построены согласно заданным правилам описания, будучи скомбинированы определённым способом, образуют логическое предложение. Это как раз и показывает, что они находятся во внутреннем отношении[108]. Возьмём, например, ‘fa’, ‘faÉya’, ‘ya’. Устанавливая, что предложение ‘fa.faÉya:É:ya’ является тавтологией, можно видеть, что из действительных предложений ‘fa’ и ‘faÉya’ следует действительное предложение ‘ya’. Таким образом, «логические предложения являются формами доказательств: они показывают, что одно или более предложений следуют из одного (или более)» (ЗМ, С.135(1)). Тавтологии показывают отношения между предложениями, которые проявлены в самих символах. Отношение следования может связывать различные предложения, поэтому логические предложения, поскольку они являются разными тавтологиями, показывают нечто различное, но «все они показывают одним и тем же способом, – а именно, тем, что они являются тавтологиями» (ЗМ, С.140(3)).
Итак, логические предложения характеризуют свойства знаковой системы. Когда установлены символические правила, логическая истина показана тавтологичностью символа. Но как устанавливается, что символ является тавтологией? Из различия сущностной и случайной истинности предложений ясно, что для этого достаточно исследования свойств самого символа. Для этого задаются исходные символы, затем устанавливаются правила их комбинирования и, наконец, определяется, что полученный таким способом символ является тавтологией. Подобная процедура связана только с внешним видом знака и не затрагивает никакого содержания. Логическое предложение может быть чрезвычайно сложным, сложным до такой степени, что непосредственно не видно, что оно является тавтологией. Но если мы можем показать, что знак этого предложения получается из других символов согласно правилу конструирования тавтологий, этого достаточно, чтобы рассматривать его как определённую форму доказательства и в соответствии с ним устанавливать внутренние отношения предложений друг с другом. В этом случае процесс вычисления тавтологичности не выходит за рамки установления внешнего вида символа, свойства которого выводятся из внешнего вида более простых символов.
Апелляция к внешнему виду знаков при установлении логической истинности предложения отличает точку зрения Витгенштейна от взглядов Фреге и Рассела. Для Фреге и Рассела логическое предложение выражает универсальную истину (закон логики), обоснование которой требует доказательства с помощью других истин. Для этого задаются так называемые примитивные предложения логики и правила вывода, и всё, что можно получить из первых с помощью вторых, считается доказанным логическим предложением. Рассмотренный таким образом процесс доказательства вполне аналогичен доказательству действительного предложения с помощью других действительных предложений, поскольку апеллирует скорее к содержанию символов, а не к их внешнему виду. Для Витгенштейна доказательство тавтологии не есть доказательство её истинности, поскольку логические предложения не являются истинными и ложными в том смысле, в котором истинными и ложными являются подлинные предложения. Процесс доказательства тавтологии говорит не о содержании (логические предложения бессодержательны), а о виде самого символа. И говорит именно, то, что он может быть получен с помощью соответствующих правил комбинирования, поскольку «так называемое доказательство логического предложения не доказывает его истинности, но доказывает, что оно является логическим предложением» (ЗМ, С.134(6)).
Анализируя символические особенности логических предложений, Витгенштейн демонстрирует, что логика ничего не сообщает о мире. Её компетенция ограничивается исследованием особенностей знаковых систем. Следовательно, любая теория, выходящая за рамки комбинаторики со знаками и имеющая материальное содержание, должна быть из логики устранена. Прежде всего это касается теории типов, которая пытается нечто сказать о видах значения. Все проблемы, для решения которых она предназначена, должны быть устранены на уровне надлежащим образом объяснённого символизма. Теория типов пытается установить эксплицитное различие между вещами, свойствам, отношениями и т.д.; но к логике это не должно иметь никакого отношения, поскольку логика апеллирует только к внешнему виду знаков. Но говоря о внешнем виде знаков, мы имеем в виду не то, что они обозначают, а то, что именно в них символизирует. Возьмём, например, предложение ‘aRb’. Это предложение говорит о реляционном факте. Если мы спросим: “Почему?”, теория типов может сказать нам: потому что знак ‘R’ обозначает отношение. Но с точки зрения Витгенштейна, здесь символизирует не наличие знака ‘R’, а тот факт, что он находится между двумя именами. В этом случае мы не задаём значение отдельных элементов знака, а лишь указываем на то, что именно несёт символическую нагрузку. То, что ‘aRb’ выражает реляционный факт, показано самим видом символа.
Знак вводится через указание его возможных способов комбинирования с другими знаками, а это само по себе задаёт интенцию значения. Бессмысленно говорить, что данный знак относится к тому или иному типу, поскольку для того, чтобы это сделать, необходимо знать, что представляет собой символ, в который может входить данный знак, но как только это известно, символ сам показывает тип знака и, следовательно, тип того, что символизируется; т.е. «зная, что символизирует, ты знаешь всё, что должно быть известно; ты не можешь сказать что-либо о символе» (ЗМ, С.136(1)). Отсюда вытекает, что любая теория типов должна быть преодолена различием между тем, что говорит язык, и тем, что он показывает. При рассмотрении ‘aRb’ не имеет смысла говорить, что a и b являются вещами, это показывают знаки ‘a’ и ‘b’, соотношение которых показано символом предложения в целом. Даже если и существовали бы предложения, в которых эксплицитно устанавливается тип (например, “a есть вещь” или “R есть отношение”), «они были бы излишними (тавтологичными), потому что они пытаются сказать нечто такое, что уже и так видно» (ЗМ, С.135(5)), когда мы смотрим на ‘a’ и ‘R’.
Различие между показанным и сказанным относится и к определению типа предложения. Предложения имеют смысл, и возможность их понимания не зависит от действительного значения. Но, понимая предложение, если оно вообще имеет какой-то смысл, мы видим его форму, которая показывает, является ли предложение субъектно-предикатным или реляционным. Возможность смешения типов в результате подстановки знака одного типа вместо другого при рассмотрении формы предложения здесь исключена, поскольку форма показывает, какие знаки могут быть подставлены, а какие нет. Это решает проблему установления бессмысленности предложений, в которых смешаны знаки различных типов.
Для пояснения этого тезиса обратимся к примерам Витгенштейна. Возьмём ‘~x’. С точки зрения расселовской теории типов бессмысленность данного выражения связана с тем, что знак ‘~’ не может выражать свойство предмета, который обозначается посредством ‘x’. Однако дело здесь не в типе знака ‘~’, а в интерпретации общей формы, в которой он может встречаться. Когда задаётся форма вида ‘…x’, значение имеет то, что именно в ней символизирует, а это как раз и будет определять, какие знаки можно подставлять вместо ‘x’. В знаке вида ‘fx’ символизирует то, что ‘f’ стоит слева от собственного имени, но когда мы используем ‘~’ в ‘~р’ это, очевидно, не так, ведь ‘p’ не является собственным именем. Это само по себе показывает, что ‘~’ не является знаком свойства, поскольку «во всех предложениях, в которых встречается имя свойства, общим является то, что это имя стоит слева от формы имени»(ЗМ, С.143(1)).
Аналогичные соображения касаются и других случаев. Сравнивая выражения “Платон Сократ” и “Абракадабра Сократ”, можно предположить, что первое в отличие от второго имеет смысл, поскольку ‘Платон’ имеет значение, а ‘Абракадабра’ – нет. Однако оно столь же бессмысленно, поскольку, для того чтобы «эта целая фраза имела значение, необходимо не то, чтобы ‘Платон’ имело значение, но чтобы значение имел тот факт, что ‘Платон’ находится слева от имени» (ЗМ, С.143(2)). Здесь, как и в первом случае, установление бессмысленности не требует обращения к типам значения, достаточно символических особенностей самих знаков.
Предотвращение бессмысленности предложений с точки зрения правильной трактовки символов позволяет устранить парадоксы, касающиеся самореферентных функций, для разрешения которых Расселом как раз и была разработана теория типов. Предложения вида “Свойство не быть зелёным не является зелёным” Рассел считает бессмысленными потому, что свойство ‘зелёное’ приписывается свойству того же самого типа. Однако знаки сами показывают невозможность подобной комбинации, поскольку символическая особенность предиката, который выражает свойство предмета, состоит именно в том, что он должен сочленяться с собственным именем, а выражение ‘свойство не быть зелёным’ таковым не является. Как говорит Витгенштейн, «f не может стоять слева (или в любом другом отношении) от символа свойства. Так как символ свойства, например yх, заключается в том, что y стоит слева от именной формы, и другой символ f, вероятно, не может стоять слева от такого факта: если бы он мог, мы имели бы нелогичный язык, который невозможен» (ЗМ, С.143(4))[109].
Каждое предложение показывает символические особенности знаков, из которых оно построено, что само по себе различает их тип. В предложении “Мур хороший” показано взаимное расположение ‘Мур’ и ‘хороший’. Об этом расположении может сказать другое предложение, например «‘Мур’ расположено слева от ‘хороший’». Но то, что говорится в этом последнем предложении, относится к произвольным чертам символической системы. Вполне можно представить язык, где предложение с тем же самым содержанием имело бы другое расположение знаков, о котором можно сказать в другом предложении. Однако наряду с произвольными чертами каждая знаковая система несёт нечто непроизвольное. К непроизвольному относится то, что знаки, символизирующие по-разному, относятся к различным типам. Это относится к той части показанного, которая не может быть высказана ни в одном предложении, поскольку любое предложение должно уже обладать этим фундаментальным логическим свойством. К сущностным чертам любой символической записи относится то, «что тип символа отношения отчасти фиксируется типом символа вещи, поскольку в нём должен встречаться символ последнего типа» (ЗМ, С.137(2)); то, как это осуществляется в каждом конкретном случае, является случайным.
Сущностные черты языка характеризуют возможную интенцию значения тех или иных символов, привнося различие в типы значения; поэтому логический анализ затрагивает не просто систему записи, но и характеризует действительность[110]. Правда, отношение логики к универсуму здесь иное, чем предполагается расселовской теорией типов. То, что в логике характеризует действительность, относится к уровню ‘показанного’, а не к уровню ‘сказанного’. Действительные предложения имеют смысл, т.е. мы понимаем, что имеет место, когда они являются истинными, и что имеет место, когда они являются ложными, но за наличие смысла отвечает логическая форма, которую мы видим, когда смотрим на предложение. Логическая форма показывает символические особенности знаков, из которых построено предложение, поэтому «каждое действительное предложение – помимо того, что оно говорит – показывает нечто об универсуме» (ЗМ, С.134(1)), оно отражает своей структурой некоторое логическое свойство универсума. Таким образом, каждое действительное предложение говорит об одних отношениях и показывает другие отношения. Например, предложение “На столе лежит книга” говорит об определённом отношении между книгой и столом, а соотношение знаков показывает возможность конфигурации соответствующих знакам объектов.
Адаптируя терминологию неогегельянцев, Витгенштейн называет отношения второго типа внутренними и отличает их от внешних отношений, о которых предложение говорит. «Внутренние отношения есть отношения между типами, которые не могут быть выражены в предложении, но во всём показываются в самих символах» (ЗМ, С.144(2)). Различные символы связаны различными типами внутренних отношений. Так предложения находятся в одних внутренних отношениях к предложениям и в других внутренних отношениях к именам, являющимся их конституентами. Различие этих отношений проявлено видом символов, поскольку одно предложение не может встречаться в другом предложении тем же способом, которым в нём встречается имя.
Исследование внутренних отношений входит в исключительную компетенцию логики, которая, устанавливая правила знаковой системы, систематически проявляет их в логических предложениях. Эти последние, хотя и не говорят ничего, показывают, в какого рода внутренних отношениях находятся предложения, построенные с помощью символов различных типов. В частности, тавтологии, относящиеся к логике высказываний, показывают систему внутренних отношений, которые связаны с логическими операторами. Так, например, в определённом внутреннем отношении находятся предложения ‘fа’ и ‘fаÉyа’, которое показано тавтологией ‘fа.fаÉyа:É:yа’ и которое даёт нам право дедуцировать из них предложение ‘yа’. В логике предикатов тавтологии, включающие символ тождества, например ($х).fх.х=а:º:fа, показывают внутреннее отношение между функцией и её аргументом. Асимметрия и связь логических операторов, показанные тавтологиями, демонстрируют внутренние отношения предложений.
Понятые таким образом, внутренние отношения не являются отношениями в собственном смысле, поскольку они не говорят, как одно предложение связано с другим предложением, но показывают, что форма одного символа есть часть формы другого символа.
Следствием внимания к символическим особенностям знаков, показанных их внешним видом, является ещё одна, хотя и незавершённая, новация Витгенштейна – стремление установить общую форму предложения. Для Рассела, который тип предложения определяет в зависимости от типа значения входящих в него знаков, понятие ‘общая форма предложения’ чуждо потому, что определение логических форм предложений зависит от принимаемых онтологических предпосылок. Можно только составить перечень различных типов предложений, определяемых типом входящих в них знаков. Субъектно-предикатные предложения, предложения с двухместными или трёхместными предикатами отличаются друг от друга тем, что одни говорят о свойствах, а другие об отношениях различной местности. Однако если определять тип знаков с точки зрения их символических особенностей, как поступает Витгенштейн, то вполне можно поставить вопрос об общем методе символизации, присущем знакам различных типов.
В подтверждение существования общей формы предложения можно привести ряд аргументов, касающихся неопределяемых различных видов. Согласно Заметкам по логике имена являются неопределяемыми. Устанавливая, что некоторый знак является именем, мы опознаём его в таком качестве во всех предложениях, в которых он может встречаться. Но предикат не является неопределяемым, поэтому сходство значков не может служить основанием для отождествления символов. Нельзя указать на то, что знак является предикатом, ссылаясь на способ его употребления в другом предложении. Тогда каким образом мы можем опознать знак как предикат? Значение предиката, согласно тем же Заметкам, задаётся логической формой, различающей поведение объектов. Следовательно, если знак должен опознаваться как предикат, его необходимо вводить с точки зрения некоторой общей формы, которая определяет символические особенности всех знаков, рассматриваемых как предикаты, а не объяснять, какой именно знак выполняет эту роль в данном предложении. В ‘f(а,b)’ тип ‘f’ нельзя установить просто ссылкой на его отношение к ‘a’ и ‘b’, поскольку этот знак не является неопределяемым. Поэтому «следует вводить функции, так же как и имена, сразу же в нашей общей форме предложения; объясняя то, что подразумевается, приписыванием значения факту, что имена стоят между скобками и что функция стоит слева от имён» (ЗМ, С.145(4)). На это можно возразить, что предикаты различной местности относятся к различным типам. Однако, как считает Витгенштейн, аналогия между отношениями различной местности и возможность рассмотрения n-местного отношения показывают, что все предикаты имеют нечто сходное, нечто такое, что не связано с различием в типе. Сходное затрагивает общий способ символизации, а различное подобно различию имён, т.е. зависит от опыта. Отсюда становится ясным, как можно установить, что получена действительно наиболее общая форма предложения, «нужно только ввести то, что является общим для всех отношений любой местности» (ЗМ, С.146(5)).
Существование общей формы предложения оправдывает то чувство, которое возникает при анализе предложений действительного языка. Каждое из них является бесконечно сложным и всегда поддаётся дальнейшему анализу, поскольку его составные части никогда не являются простыми. Но при формализации оно рассматривается таким образом, как если бы было далее неанализируемым. Представляя предложение “На столе лежит книга” в виде ‘aRb’, необходимо учитывать, что ни ‘стол’, ни ‘книга’ не являются простыми, не поддающимися дальнейшему анализу компонентами. Однако общая форма предложения оправдывает априорную уверенность в том, что как бы далеко не распространялся анализ, он всё равно приведёт нас к чему-то подобному ‘aRb’, к чему-то такому, где форма символизирующего факта будет заключаться в определённой конфигурации имён. Эта же априорная уверенность позволяет переходить от предложений вида “На столе лежит книга” к предложениям с мнимыми переменными, например ($x,y,R)xRy, которые являются уже неанализируемыми, но вполне понятны, хотя мы, возможно, и не знаем далее неразложимых предложений вида ‘aRb’.
Обратим внимание на то, что предложения с мнимыми переменными не содержат имён, но характеризуют общую форму символизирующего факта. Рассматривать их с точки зрения теории типов вообще бессмысленно, поскольку они говорят не о типах значений, а о знаках. Предложение ($x,y,R)xRy должно прочитываться не как ‘Существуют две такие вещи и такое отношение…’, а как ‘Существуют такие x и y и R…’. Также и общая форма предложения ничего не говорит о типах значения, но характеризует символические особенности различных знаков. Когда задаётся общая форма предложения, задаются возможные способы конфигурации знаков вещей, свойств и отношений, а тем самым задаётся возможная конфигурация их значений. Это выводит на установление общего способа верификации предложений. Если мы говорим, что данный символ является предложением, поскольку конфигурация его знаков удовлетворяет общей форме предложения, тем самым указывается на совокупность возможных конфигураций значений в соответствующих фактах, а это определяет смысл предложения, т.е. те случаи, в которых оно является истинным, и те случаи, в которых оно является ложным.
Ещё один аргумент в пользу введения общей формы предложения касается логических неопределяемых. Как было установлено в Заметках по логике, логические операторы не имеют предметного значения, они относятся к внутренним отношениям в рамках знаковой системы. Область их функционирования регулируется знаками препинания, такими как точки и скобки, а значит, они имеют определённый ‘радиус действия’. ‘Знаки препинания’ не имеют собственного значения, но должны вводиться одновременно с логическими операторами. В этом случае возникает проблема тождественности операций, имеющих различный радиус действия. Для того чтобы, например, условная связь одинаково понималась в предложениях ‘pÉq’ и ‘pÉ(qÉr)’, необходимо задать такие правила комбинирования знаков, которые сохраняли бы её смысл во всех возможных сочетаниях. Поэтому при введении логических операторов «необходимо ввести общее понятие всех возможных их комбинаций = общую форму предложения» (ЗМ, С.145(1)). Это относится не только к ab-функциям, но и к логическим неопределяемым других видов, например кванторам.
3. СИСТЕМА: ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ТРАКТАТ
Логико-философский трактат создавался с 1914 по 1918 год. Его созданию сопутствовали обстоятельства, о которых нельзя не упомянуть, поскольку они, вероятно, сказались на содержании. Летом 1914 года началась Первая мировая война, и Витгенштейн добровольцем вступил в австро-венгерскую армию. Большую часть времени он провёл на Восточном фронте. В 1918 году его перебросили на Южный фронт, где после развала австро-венгерской армии он был взят в плен итальянцами. Почти год Витгенштейн провёл в плену, большую часть времени в лагере в Монте-Касино (Южная Италия). Здесь он и закончил ЛФТ. На протяжении всего пребывания на фронте, несмотря на экстремальные условия, Витгенштейн вёл философский дневник. Афоризмы ЛФТ представляют собой выборку из этих дневниковых записей. Часть дневниковых записей, не вошедших в основное произведение, сохранилась и может использоваться для интерпретации ЛФТ наряду с основным текстом. Добавим, что первое издание ЛФТ относится к 1921 году[111].
Для общей оценки основного произведения раннего Витгенштейна воспользуемся расхожим мнением, что если бы философская деятельность Витгенштейна ограничилась ЛФТ, эта книга всё равно составила бы мировую славу её автору. Это предположение невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Можно лишь констатировать, что по степени влияния редкое философское произведение, написанное в XX веке, может составить конкуренцию этой книге. В ней Витгенштейн рассматривает практически все вопросы, относимые к компетенции философии, и даёт им оригинальное решение, во многом определившее специфику современной философии. Можно сказать, что именно в этом произведении был выражен лингвистический поворот, у Фреге и Рассела лишь намеченный, в рамках которого действуют философы–аналитики. Но у самого Витгенштейна этот поворот мотивирован не просто потребностями логического анализа. Он укоренён в стремлении выразить мистическое чувство жизни, превосходящее возможности языка.
3.1. Проект: Логика языка versus логика мышления
Когда-то Гегель говорил, что предисловия пишутся после того, как автору окончательно ясным стал замысел, воплощённый в главной части. Поэтому основной текст должен, в свою очередь, рассматриваться как введение к введению. Если исходить из этого принципа, то единство понимания зависит от взаимных импликаций задач, сформулированных в предисловии, и их реализации в основном тексте. Утверждение Гегеля в полной мере относится к ЛФТ[112], где лишь в предисловии единственный раз во всей книге Витгенштейн даёт общую формулировку замысла, но сам этот замысел вне контекста реализации во многом остаётся непонятным. Однако предисловие даёт хорошую возможность оценить, в каком направлении движется автор. Центральная часть предисловия в четырёх предложениях фактически содержит весь замысел книги:
«Книга излагает философские проблемы и показывает, как я полагаю, что постановка этих проблем основывается на неправильном понимании логики нашего языка. Весь смысл книги можно сформулировать приблизительно в следующих словах: то, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чём невозможно говорить, о том следует молчать.
Стало быть, книга хочет провести границу мышлению, или скорее не мышлению, а выражению мыслей, ибо, чтобы провести границу мышлению, мы должны были бы мыслить по обе стороны этой границы (следовательно, мы должны были бы быть способными мыслить то, что не может быть мыслимо).
Поэтому эту границу можно провести только в языке, и всё, что лежит по ту сторону границы, будет просто бессмыслицей».
В этих фразах без труда улавливается лежащий на поверхности кантианский смысл. Действительно, со времён Канта любой вопрос о возможности чего-то рассматривается как реализация критической установки. Проблема подобного рода всегда результируется в представлении о некоторой границе, отделяющей возможное от невозможного. Поэтому критическую философию с полным правом можно было бы назвать философией, устанавливающей границы. В этом смысле позицию Витгенштейна, который, указывая задачу ЛФТ, говорит: «Книга хочет провести границу мышлению», вполне можно охарактеризовать как критическую. Более того, данный тезис вполне вписывается в установки Канта, определяющего главную проблему теоретической философии как вопрос о том, «Что я могу знать?». Нетрудно, впрочем, заметить, что эта проблема имеет специфическое преломление. Витгенштейна интересует скорее не вопрос о наличии границы, а вопрос о том, где такую границу можно провести. Последнее затрагивает проблему критерия демаркации возможного-невозможного. Для Канта эта проблема решается с точки зрения познавательных способностей, невозможность выйти за рамки которых определяет границу между познаваемым и непознаваемым. В этом отношении исследование возможности познания ставится в догматическую зависимость от того, какими способностями мы наделяем субъекта, вынося в область непознаваемого всё то, что эти способности превосходит.
Как видно из предисловия, такой ход не удовлетворяет Витгенштейна, поскольку в этом случае немыслимое в некотором смысле становится мыслимым, выразимым, пусть даже оно и вводится с помощью постулата в качестве вещи самой по себе. Можно, конечно, поставить вопрос о возможности самих способностей, радикализируя критическую установку Канта, но подобный подход грозит перспективой ухода в дурную бесконечность. Критика критического подхода в свою очередь сама может потребовать критики и т.д. Поэтому вопрос о действительном установлении границы требует изменения перспективы, что связано уже не с исследованием познавательных способностей, а с исследованием тех средств, в которых эти способности могут быть выражены. В этом заключается лингвистический поворот, который, учитывая классическую критическую позицию, можно было бы назвать критической установкой второй степени, ориентированной на «установление границ выражения мысли». Адаптируя подход Канта, Витгенштейну можно было бы приписать вопрос: «Что я могу выразить из того, что я знаю?» Этот вопрос, однако, не следует понимать в том смысле, что я нечто знаю, а потом пытаюсь это нечто выразить. Вопросы «Что я могу знать?» и «Что я могу выразить?» фактически слиты здесь до неразличимости, поскольку я могу выразить только то, что знаю, а могу знать только то, что способен выразить. Таким образом, задача ЛФТ очерчивается стремлением выяснить условия априорной возможности языка. В подготовительных материалах так и говорится: «Вся моя задача заключается в объяснении сущности предложения» (Д, С.57(9)). Вопрос о возможности предложения образует фон всех тем, затрагиваемых Витгенштейном[113]. Здесь уже непосредственно просматривается связь с Кантом, который главной темой Критики чистого разума сделал вопрос об условиях возможности суждения[114]. Однако этим сходство и ограничивается. Аналогия между тем, как трансцендентальная логика, опираясь на трансцендентальный анализ опыта, решает проблему функционирования априорно-синтетических суждений, и тем, как формальная логика, опираясь на логический анализ языка, решает проблему функционирования предложений, представляется спорной[115]. Здесь не должно вводить в заблуждение то, что Витгенштейн иногда пользуется кантианской терминологией. Его цель и метод не имеют ничего общего с традиционной критической философией.
Для установления различий прежде всего необходимо выяснить, какое место в ЛФТ отводится формальной логике. Лучше всего охарактеризовать соотношение логической теории и языка позволит сравнение позиции ЛФТ с позицией Рассела, который был первым, а, судя по мнению Витгенштейна, возможно, и единственным компетентным читателем. По просьбе автора он написал введение к первому изданию его работы, где наряду с разъяснением ряда технических деталей содержится общая оценка задачи. Витгенштейн отрицательно отнёсся к тексту своего английского друга, считая его поверхностным и неправильно трактующим задачу книги[116].
Для Рассела основную роль играет оппозиция естественного и идеального, логического языка, с точки зрения которой он и рассматривает задачу ЛФТ. В частности, он пишет: «Чтобы понять книгу м-ра Витгенштейна, необходимо осознать проблему которая его занимает… М-р Витгенштейн исследует условия, необходимые для логически совершенного языка, – речь идёт не о том, что какой-либо язык является логически совершенным или что мы считаем возможным здесь и сейчас построить логически совершенный язык, но о том, что вся функция языка сводится к тому, чтобы иметь смысл, и он выполняет эту функцию лишь постольку, поскольку приближается к постулируемому нами идеальному языку»[117]. Такое понимание задачи книги вполне укладывается в рамки того, что делает сам Рассел. Для чего служит логический анализ языка? Он предназначен для того, чтобы вскрыть имплицитные противоречия, содержащиеся в некритически принимаемых способах выражения. Любая теория, претендующая на описание реальности, не может гарантировать свободу от противоречия. Однако дело зачастую вовсе не в том, что неправильно задана предметная область исследования. Если такое и случается, то это внутреннее дело самой теории, которая допускает корректировку задачи и методов исследования. Когда теория выполняет эвристическую функцию, её существование вполне допустимо. Однако наряду с позитивными утверждениями в совокупность выводов, полученных из постулатов теории, могут вкрасться такие следствия, которые связанны не столько со спецификой исследования, сколько с некритически усвоенными средствами, предоставляемыми используемым языком. Для Рассела типичным примером здесь служит парадокс, установленный им самим в фрегеанской теории функции. Парадоксы подобного рода устранимы надлежащим логическим анализом и созданием более адекватных средств выражения. Рамки, в которых действует Рассел, укладываются в две крайние точки. Это естественный язык с его двусмысленными, самореферентными выражениями, с одной стороны, и идеал языка, полностью свободного от эквивокаций с другой. Логический анализ, по существу, рассматривается как средство перехода от первого ко второму. Он оправдан лишь тогда, когда результируется в соответствующей логической теории, более или менее близкой к постулируемому идеалу[118]. Причём степень приемлемости такой теории зависит от совокупности проблем, касающихся средств выражения, на которые она может дать удовлетворительный ответ. Например, логическая теория Principia Mathematica ближе к идеалу, чем фрегеанский Begriffschrift, поскольку первая свободна от содержащегося в последнем противоречия.
Рассел рассуждает по следующей схеме. Допустим, в языке теории обнаруживается противоречие, связанное, скажем, с функционированием самореферентных выражений или пустых имён. Но описание должно быть свободно от противоречия, которое, стало быть, необходимо устранить. Возникает вопрос: Как? Ответ: Нужно найти объяснение его источника. Как только источник найден, следует принять дополнительное условие, накладываемое на применение выразительных средств. Таким образом, искусственный язык, претендующий на близость к идеалу, связан дополнительными условиями, и чем ближе к идеалу, тем условий становится всё больше. В качестве таковых у самого Рассела выступают теория типов, теория дескрипций, теория лишних сущностей, которые добавляются к исходным условиям совершенного языка, например, в виде аксиомы бесконечности или аксиомы сводимости. Таким образом, логический анализ представляет собой своеобразную заботу о языке. Забота подобного рода выражается либо в ограничениях, накладываемых на образование выражений определённого рода, либо в разработке правил сведения одних выражений к другим. Работа логика как философа в более широком смысле сводится к созданию удовлетворительной онтологии и теории познания, которые позволили бы обосновать те условия, при которых возможен идеальный язык. Именно в этом источник философских допущений Рассела. Он как бы говорит: «Если вы хотите, чтобы язык работал нормально, тогда вам необходимо принять ту теорию познания и онтологию, которую разрабатываю я». Философия для английского философа – это то, что фундирует надлежащий логический анализ. Перефразируя известное изречение схоластов, можно сказать, что философия выступает здесь служанкой логики. С точки зрения собственного видения задачи Рассел рассматривает и результат работы Витгенштейна, расценивая его в заключительных пассажах Введения как построение свободной от видимых противоречий логической теории, возможно в чём-то сходной с его собственной[119].
Совершенно по-иному задача видится Витгенштейну. Внешней телеологии логического анализа Рассела он противопоставляет внутреннюю телеологию языка. Проблема не в том, чтобы наложить на язык внешние условия, «мы должны узнать, как язык заботится о себе» (Д, С.61(12)). Подобная постановка вопроса совершенно переориентирует цель исследования. Из вопроса элиминируется субъективное условие возможности анализа. Дело не в том, чтобы выяснить, какие дополнительные ограничения должны быть наложены на язык, для того чтобы он отвечал нашим целям. Язык внутренне целесообразен, и как таковой обладает внутренними механизмами, предотвращающими возникновение парадоксов. «Мне нет надобности заботиться о языке» (Д, С.62(3)), язык заботится о себе сам. Всевозможные несообразности, формулируемые в виде парадоксов, возникают из «неправильного понимания логики нашего языка». Дело не в том, чтобы создать новый, более совершенный язык, дело в том, чтобы, следуя внутренней целесообразности языка, правильно объяснить, как он работает. Такой постановке вопроса, видимо, немало способствовала интуиция инженера, на которого первоначально учился Витгенштейн. Если механизм работает со сбоями, нужно выяснить принцип его работы, а не конструировать дополнительные механизмы, корректирующие сбои.
В пользу внутренней целесообразности языка говорит то, что человек обладает способностью строить язык, в котором выразим любой смысл, зачастую не имея представления о значении его отдельных компонентов. Связано это с тем, что телеология отражается в логике, которую язык навязывает тому, кто его использует. Логика есть не что иное, как выражение внутренней целесообразности. Здесь носитель языка выступает в качестве ведомого, которому услуги гида навязаны с необходимостью. Правда, часто случается так, что указания проводника понимаются неправильно и заводят в непроходимые дебри. Причина сбоев в том, что «язык переодевает мысли. И притом так, что по внешней форме этой одежды нельзя заключить о форме переодетой мысли, ибо внешняя форма одежды образуется с целями совершенно отличными от того, чтобы обнаруживать форму тела. Молчаливые соглашения для понимания повседневного языка чрезмерно усложнены» [4.002]. Сложность молчаливых соглашений обусловлена сложностью человеческого организма, частью которого является язык. Это свойство повседневного языка обнаруживается с попыткой сказать что-нибудь предельно ясно. Самое простое предложение, например “Часы лежат на столе”, окажется бесконечно сложным и полным эвфемизмов, если попытаться выяснить его окончательный смысл. Поэтому, «не в человеческих силах непосредственно из него вывести логику языка» [4.002]. Этой цели может служить искусственное приспособление, в качестве которого Витгенштейн рассматривает формульный язык, изобретённый Фреге и Расселом. Но это вовсе не означает, что язык повседневного общения следует заменить искусственным. Искусственный язык ничуть не в большей мере близок к идеалу, чем естественный, если об идеале здесь вообще имеет смысл говорить. Каждый язык совершенен в той мере, в которой он выполняет своё предназначение. Другое дело, что различные языки по-разному обнаруживают свою структуру. В этом отношении искусственный язык более удобен, поскольку он в явном виде демонстрирует то, что в обычном языке скрыто. Логический анализ не предоставляет нам новый, более совершенный язык, он есть средство установления структуры любого языка, скрытой молчаливыми соглашениями.
Здесь становится ясным, что априорные условия возможности языка, искомые Витгенштейном, это не те условия, о которых говорит Рассел. Автор ЛФТ действует не как логик, стремящийся построить непротиворечивую формальную теорию. «Книга излагает философские проблемы», а не логические. Идеальный язык – не цель, а средство. Попытки скорректировать логику языка, связав её дополнительными условиями, действительно есть философское заблуждение. Что может быть критерием предельной ясности, как не сама логика? Цель Рассела – исключить из языка логической теории бессмысленные утверждения. Но критерий осмысленности и бессмысленности можно провести только в языке, он должен устанавливаться самой логикой, его нельзя навязать извне. «Логика заботится о себе сама, нам нужно лишь следить за тем, как она это делает» (Д, С.27(3)). В этом смысле логика автономна, она сама устанавливает себе критерии.
Таким образом, видно, что понимание цели и метода логического анализа у Витгенштейна совершенно иное, чем у Рассела, и связано с пониманием языка. Однако само по себе это различие ещё мало говорит о характере новаций, гораздо важнее понять, на чём оно основано. Начнём с того, что в отличие от Рассела и Фреге (как, впрочем, и многих других менее близких исследователей) Витгенштейн никогда не говорит о логике как науке о формах и законах мышления. В ЛФТ логика связана исключительно с языком. Факт достаточно интересный, особенно если учесть, сколь значительное место занимали в работах его учителей вопросы теории познания. Последнее объясняется тем, что, несмотря на усовершенствование логической техники, Фреге и Рассел остаются в рамках традиционных представлений о соотношении реальности, мышления и языка. Традиционный подход можно суммировать в следующем тезисе: Есть реальность, есть мышление, в которой дана реальность, есть язык, выражающий мышление. В данном случае неважно, как понимается реальность или мышление. Существенно то, что мышление рассматривается в качестве ментального посредника между тем, что мыслится, и способами выражения мысли. В рамках этой трёхэлементной структуры языку отводится вспомогательная роль, связанная с фиксацией результатов мышления. При этом предполагается, что способ выражения результатов может быть более или менее адекватным. Стремление построить идеальный язык как раз укладывается в эту схему. Правда, это стремление основано на одной сомнительной предпосылке. Получается, что интуиция мышления противопоставляется интуиции языка, что мышление каким-то образом дано до и помимо языка и что ‘непосредственное’ изучение мышления может скорректировать ошибки, обнаруживаемые в средствах выражения. Одним из парадоксов такой прямой апелляции является то, что предполагается возможность установления границы между допустимым и недопустимым в рамках самого мышления или, по выражению Витгенштейна, «способность мыслить то, что не может быть мыслимо».
Иную точку зрения развивает автор ЛФТ: «Мышление и язык - одно и то же. А именно, мышление есть вид языка. Так как мысль, конечно, тоже есть логический образ предложения и, таким образом, также и некоторый вид предложения» (Д, С.105(2)). Витгенштейн убирает ментального посредника. Есть реальность, есть язык, в которой она выражается. Мышление в непсихологическом смысле и есть язык. Мышление в психологическом смысле есть применение языка. Таким образом, апелляция к мышлению при изучении языка переворачивает их действительное соотношение. Раз мышление и язык одно и то же, то всё существенное языка в полной мере относится и к мышлению как его разновидности. Для Витгенштейна изучение языка и есть изучение самого мышления в его сущностных чертах, свободных от психологических привнесений. В языке дано самое существенное мышления. Дело обстоит не так, что имеются необходимые условия мышления, которые могут быть нарушены применением неадекватных средств выражения. Используя терминологию Канта, в языке даны априорные условия мышления. В телеологии языка выражен схематизм мышления. В этом смысле как выражение внутренней целесообразности языка «логика трансцендентальна» [6.13].
Впрочем, задача ЛФТ, если рассматривать её с точки зрения изучения априорных структур мыслительного процесса, вполне сопоставима с усилиями других авторов. На это пытается обратить внимание и сам Витгенштейн, когда задаёт риторический вопрос: «Разве не соответствует моё изучение знакового языка изучению мыслительного процесса, который философы считали таким существенным для философии логики? Только они по большей части запутались в несущественных психологических исследованиях» [4.1121]. Однако пониматься это должно с соответствующей корректировкой, а именно с точностью до наоборот. В ЛФТ изучению существенных черт мышления для корректировки языка логики противопоставлено изучение логики языка для установления существенных черт мышления[120]. Изучение мышления касается применения логики и не может фундировать последнюю. Логика до мышления, в его психологическом смысле.
Показателем психологизации существа дела является обращение к опыту, который в исследованиях подобного рода всегда выступает неким summum summarum мышления. Витгенштейн же руководствуется основным принципом, что «каждый вопрос, который вообще может решаться логикой, должен решаться сразу же» [5.551]. Логику не затрагивают проблемы, связанные с тем, что лежит в основании конкретных знаний о мире, чувственное или интеллектуальное созерцание. Как раз наоборот, попытки решать логические проблемы, обращаясь к созерцанию мира, как это делают Рассел или Фреге, указывают на ошибочность предпринимаемых усилий. Но это не означает, что логика не имеет никакого отношения к миру. Последнее могло бы иметь силу только тогда, когда логика соотносилась бы с формами и законами мышления, как, например, у Канта, который рассматривает формальную логику как теорию, описывающую структуру отношения мышления к самому себе. Поскольку у Витгенштейна речь идёт о логике языка, а сущность языка он видит в описании реальности, постольку логика, являясь выражением внутренней целесообразности языка, очерчивает границы любого возможного описания. «Великая проблема, вокруг которой вращается всё, что я пишу, следующая: существует ли a priori некоторый порядок в мире, и если да, то в чём он состоит?» (Д, С.73(1)). При ответе на этот вопрос необходимо учитывать, что с точки зрения позиции, выраженной в ЛФТ, речь о реальности может идти только в том отношении, в котором она выражена в языке. Поэтому априорный порядок в мире есть следствие априорного порядка в языке.
Несмотря на то, что такой ход мысли имеет видимое сходство с трансцендентальной постановкой вопроса, нельзя переоценивать его близость к какой-то разновидности трансцендентализма. Если это и трансцендентальная философия, то в весьма своеобразном смысле. Её можно назвать негативным трансцендентализмом, поскольку она пытается всякий опыт вывести за рамки отношения языка к реальности. Логика до опыта, неважно, будет он чувственным, как у Канта, или каким-то другим. Априорный порядок в мире не зависит от типа созерцания. «’Опыт’, в котором мы нуждаемся для понимания логики, заключается не в том, что нечто обстоит так-то и так-то, но в том, что нечто есть, но это как раз не опыт. Логика есть до всякого опыта – что нечто есть так. Она есть до Как, но не до Что» [5.552]. Логический анализ затрагивает тот срез вопросов, который касается того, что вообще что-то есть, неважно каким образом оно нам дано. В этом он скорее ближе метафизике Аристотеля, пытающейся ответить на вопрос «Что есть сущее само по себе?»[121].
Таким образом, понятие опыта, являющееся центральным для трансцендентальной философии, вообще не задействовано у раннего Витгенштейна. Возникает резонный вопрос: «Почему?» Для того чтобы на него ответить, необходимо уяснить, какое место в ЛФТ отводится субъекту. Речь, разумеется, идёт о субъекте в непсихологическом смысле. Чтобы прояснить эту проблему обратимся к аналогии, хотя и не вполне правомерной, с Кантом. В трансцендентальной логике субъект выступает условием применения схематизма рассудка к чувственному материалу. При этом сам субъект не является элементом схемы, он выведен за её рамки. Учитывая, что для Витгенштейна схематизм мышления выражен в телеологии языка, субъект не может обнаруживаться в языке. Он выведен за его рамки так же, как трансцендентальное единство апперцепций в схематизме Критики чистого разума. Здесь аналогия заканчивается. В трансцендентальной философии схематизм описывает применение чистых рассудочных понятий к чувственности, а субъект является условием такого применения. В результате применения рождается опыт. Всё, что не укладывается в схематизм, является для Канта бессмысленным, имеет характер ‘трансцендентальной видимости’. Опыт – это своего рода горизонт, за который не может выйти трансцендентальная философия. Но именно поэтому отношение языка и мира не является для Витгенштейна трансцендентальным в смысле Канта. В ЛФТ речь идёт не о применении языка, а о тех условиях, которые позволяют применять что-то к чему-то. Действительно, субъект является условием применения языка к миру, так же как мастер является условием применения шаблона к измеряемому предмету. Но любое применение должно предполагать, что шаблон и измеряемый предмет имеют нечто общее. Между шаблоном и предметом имеются объективные функциональные отношения. В отличие от субъективных, объективные условия применения предшествуют самому применению. Как раз поэтому применение бывает верным или неверным в зависимости от правильности понимания шаблона. Именно о таких объективных условиях и ставится вопрос. Но опыт без субъективного условия совпадает с миром: «Весь опыт есть мир и не нуждается в субъекте» (Д, С.111(14)).
Когда речь идёт об объективных отношениях языка и мира, то объективное понимается не в критическом, кантовском смысле, а в самом что ни на есть догматическом, поскольку имеются в виду те отношения, которые устанавливаются до всякого субъекта. Вопрос стоит примерно так: Что есть в самом знаке, чтобы он мог рассматриваться как знак? Каковы необходимые условия функционирования знаковой системы? Таким образом, задача не в том, чтобы выяснить, как мы выражаем себя с помощью знаков, а в том, чтобы выяснить природу существенного и необходимого в знаках. Не опыт, а именно природа существенного и необходимого в знаках должна устанавливать границу мыслимого. Демаркация осмысленного и бессмысленного совпадает здесь с демаркацией выразимого и невыразимого. Вопрос стоит об установлении такой границы, которая обусловлена сущностью самого языка. Структура знаковой системы накладывает ограничения, которые не могут быть преодолены в силу природы самой знаковой системы.
Возникает серьёзная проблема. Когда априорные условия познания устанавливаются в рамках мышления, о них можно говорить, подразумевая, что мышление и язык не одно и то же. Поскольку априорные условия познания устанавливаются именно в языке, о них нельзя даже сказать. Действительно, возможность высказать нечто осмысленное о необходимых чертах структуры языка предполагает и возможность осмысленного отрицания такого высказывания, что само по себе бессмысленно. Вполне возможно, что дополнительные условия, которые, например, Рассел накладывает на образование выражений, как раз и представляют собой попытку сформулировать указанные ограничения. Однако совершенно не случайно, что соглашения, которыми руководствуется разговорный язык, ‘молчаливы’. Языковые средства, которые можно было бы использовать для того, чтобы выразить внутреннюю целесообразность знаковой системы, сами должны были бы ей удовлетворять. Но телеология отражается в совокупности всех элементов, в системе в целом. Поэтому говорить о внутренней целесообразности языка можно было бы только выйдя за рамки языка, что абсурдно.
Здесь получает развитие тема, занимающая центральное место ещё в Заметках, продиктованных Муру. Витгенштейн явно формулирует её в письме к Расселу, в одном из тех редких случаев, когда пытается охарактеризовать общий смысл ЛФТ: «Я боюсь, Ты не уловил моё главное утверждение, для которого всё, что касается логических высказываний, есть только короларий. Главный пункт – это теория о том, что можно выразить (gesagt) высказываниями – т.е. языком – (и, что сводится к тому же, можно помыслить) и что не может быть выражено высказываниями, но только показано (gezeigt); в чём, я думаю, заключается кардинальная проблема философии»[122]. Вот здесь как раз и проступает основная задача логического анализа, как деятельности по созданию языка логики. Логический анализ предназначен не для создания совершенного языка, он предназначен для создания такой знаковой системы, которая проясняла бы строй любого языка. Логика языка (а не о какой другой логике и речи идти не может) – это то, что относится к всеобщей и необходимой природе знаков. Каждая знаковая система (от естественного языка до идеального языка Фреге–Рассела), поскольку она оперирует знаками, должна удовлетворять этой природе. Поэтому нет более или менее совершенного языка, всякий язык совершенен. Но практически любой язык говорит нечто, логический же язык, отвлекаясь от случайного содержания выражений, только показывает то, что заключено во всеобщей и необходимой природе знаков. Он показывает то, что скрыто молчаливыми соглашениями. Стремление выразить внутреннюю телеологию языка как такового и есть основная задача логики.
Поэтому, когда Витгенштейн говорит, что философские проблемы возникают из непонимания логики нашего языка, имеется в виду не то, что отдельные черты знаковой системы неправильно трактуются тем или иным исследователем. Речь идёт о том, что неправильно трактуется задача самой логики. Логика языка – это то, что относится к уровню показанного, к тому, что «не может быть сказано ясно». Поэтому всякая попытка говорить о логике языка представляет собой фундаментальное философское заблуждение. Множество философских проблем являются не ложными, а просто бессмысленными. При надлежащем понимании логики языка многие проблемы были бы решены, поскольку они бы просто исчезли. Здесь вновь работает инженерная интуиция. Человеку, которому показали, как работает механизм, какие-либо объяснения становятся излишними, он уже видит, что механизм должен работать так, а не иначе. По существу, у Витгенштейна логика становится именно средством философии, а не наоборот, как у Рассела.
Анализ общего содержания ЛФТ приводит к тому, что исчезли бы не только те проблемы, о которых говорит Рассел. За рамки построения логически совершенного языка задача Витгенштейна выходит и в другом отношении. Она не просто связана с демонстрацией существенных черт знаков. Её решение косвенным образом указывает на то, что в рамках знаковой системы вообще невозможно выразить, хотя последнее и может иметь видимость содержания. Что же ограничено необходимой природой знаков? Она показывает то, что может быть сказано с их помощью, тем самым показывая то, что с их помощью сказать нельзя. Показывая границу, мы показываем то, что находится по обе её стороны. С одной стороны – сказанное, с другой – невыразимое. С одной стороны, то, о чём необходимо говорить ясно, с другой – то, о чём следует молчать. Показанное, таким образом, разбивается на два типа: во-первых, то, что относится к знакам самим по себе; во-вторых, то, что не может быть выражено в знаках. Первое должно просто умалчиваться в силу принимаемых соглашений. О втором нужно молчать в силу невозможности выразить. Невысказанное двояко. Мы должны молчать о границе и о том, что за ней. Вопрос в том, одинаково ли молчание? О первом мы молчим в силу инженерной интуиции, поскольку излишне говорить о том, что и так ясно. О втором же молчим многозначительно, молчим эмфатически, молчим подчёркнуто. Всё наше молчание о первом есть лишь средство подчеркнуть молчание о втором.
Таким образом, показанное разнообразно, но об одном показанном Витгенштейн, проясняя структуру языка, всё же считает возможным говорить, тогда как о другом можно только молчать. Однако это молчание не беспредметно[123]. О чём именно молчит Витгенштейн, проясняет его письмо к Людвигу фон Фиккеру, издателю литературного журнала Brener, в котором автор первоначально надеялся опубликовать ЛФТ. Это письмо тем более интересно, потому что здесь по-иному, чем в послании к Расселу, разъясняется задача исследования. Фиккер не логик, поэтому содержание письма – это как бы взгляд с другой стороны. Витгенштейн пишет: «Смысл книги – этический. Как-то я хотел включить в предисловие предложение, которого фактически там теперь нет, но которое я сейчас напишу Вам, поскольку оно, быть может, послужит Вам ключом; а именно, я хотел написать, что моя работа состоит из двух частей: из той, что имеется здесь в наличии, и из той, что я не написал. И как раз эта вторая часть более важна. А именно, посредством моей книги этическое ограничивается как бы изнутри; и я убеждён, что оно строго ограничивается ТОЛЬКО так. Короче, я думаю: Всё то, о чём многие сегодня болтают, я устанавливаю в своей книге тем, что я об этом молчу. И поэтому эта книга, если я не слишком ошибаюсь, говорит многое из того, что Вы сами хотели сказать, но вероятно не увидели, что об этом говорится. Теперь, я рекомендую Вам прочесть предисловие и заключение, ибо они этот смысл приводят к непосредственному выражению»[124]. Невыразимым, таким образом, оказывается кантовское царство свободы. Все проблемы этики являются псевдопроблемами. Ясности мышления соответствует ясность выражения, а не болтовня. Наука о морали как система знаний оказывается невозможной, а предмет этики специфицируется молчанием, когда указывают на то, о чём можно говорить.
Две различные характеристики основной задачи ЛФТ, представленные в письмах, рождают проблему: Чем руководствовался Витгенштейн, логикой или этикой? Рассматривать ли его содержание как руководство по философии логики или как систематическую демонстрацию невозможности этики? Скорее, ни то, ни другое. Логика и этика – одно, с той лишь разницей, что первая, показывая то, что можно выразить, ставит границу мыслимому изнутри, а вторая, подчёркнуто безмолвствуя о своём предмете, ставит границу выразимому извне. Ясно мыслить, следуя велению императива, или многозначительно молчать, следуя требованию ясно мыслить, – это лишь вопрос предпочтения.
3.2. Знаковая система: От синтаксиса к онтологии
Как уже указывалось, основной грамматической категорией ЛФТ является предложение (Satz). Почему именно предложение? При ответе на этот вопрос необходимо учитывать как логическую, так и философскую мотивацию. Логическая мотивация не выходит здесь за рамки интуиций, которые имели место уже у Фреге. Удобство функциональной трактовки даёт очевидные преимущества при объяснении логических примитивов, из которых построено предложение, не прибегая к дополнительным допущениям. Так же как и Фреге, Витгенштейн рассматривает остальные языковые единицы с точки зрения той функции, которую они выполняют в предложении. С точки зрения этой категории вводится и понятие знаковой системы: «Совокупность предложений есть язык» [4.001]. Эвристичность такого подхода демонстрируется результатами, достигнутыми в Заметках по логике и Заметках, продиктованных Муру. Однако эти последние не отделимы от философских мотивов, технической разработкой которых они в значительной мере и являются.
Витгенштейн обращается к предложению, преследуя по крайней мере две цели. Одна цель связана с оправданием развиваемого им типа логического анализа, где логика рассматривается как выражение внутренней целесообразности языка. Для её реализации необходимо объяснить сущность предложения так, чтобы то, что считается предложениями логики, не являлось предложениями в собственном смысле, а логические константы не оказались конституентами предложения. В результате логика должна предстать знанием совершенно иного типа, чем остальные науки. Она ничего не говорит о реальности, но показывает структурные взаимосвязи знаковой системы. Другая цель связана с тем, что правильное объяснение предложения позволит вывести за рамки исследования теорию познания, которая долгое время рассматривалась как необходимый элемент, оправдывающий логический анализ. Действительно, отказ от любого вида опыта как сомнительной предпосылки логического анализа ставит под удар теорию познания как философское основание логики. Опыт, призванный объяснить, на каком основании то или иное предложение квалифицируется как истинное, здесь вообще не должен приниматься в расчёт, поскольку «для того, чтобы элементарное предложение было истинным, оно прежде всего должно быть способно к истинности, и это всё, что затрагивает логику» (Д, С.37(5)). Способность к истине не выходит за рамки основного допущения, что все конституенты предложения объяснимы с точки зрения той функции, которую они выполняют в предложении. Если бы в анализе первичными были более элементарные синтаксические единицы, то с необходимостью возникала бы проблема, каким образом из них образуется предложение, которому можно приписать истинностное значение? В данном случае вряд ли можно было обойтись без допущения синтетической деятельности субъекта, к которой, например, прибегает Рассел в своей теории суждения.
Тесная связь указанных целей просматривается уже в Заметках и может рассматриваться как развитие единой темы – темы биполярности предложений. При реализации этих целей тема биполярности развивается в двух направлениях. С одной стороны, поскольку в рамках единого предложения скоординированы два полюса, исчезает необходимость обращаться к субъекту для объяснения дуализма истины и лжи. Предложение независимо от субъекта отвечает за свою способность к истинности и ложности. Нужно только показать, каким образом предложение посредством своих полюсов ‘достаёт’ до действительности. С другой стороны, всё, что касается логического обрамления знаковой системы, отражённого в логических союзах и псевдопредложениях логики не затрагивает существенной особенности предложений быть истинными и ложными, а следовательно, не отвечает за связь предложений с действительностью и относится к свойствам знаковой системы. Необходимо лишь создать адекватную систему записи, которая демонстрировала бы эту особенность логической фурнитуры. Таким образом, движение мысли в ЛФТ можно описать так: объяснить, как предложение связано с действительностью, для того, чтобы показать грань, где эта связь утрачивается, сказанное переходит в показанное и невыразимое.
Витгенштейн пытается объяснить именно сущность предложения, а не кодифицировать различные типы предложений, указывая на их различие в способе связи с действительностью. Наоборот, только с точки зрения логической сущности предложения должны решаться все вопросы, касающиеся видимого разнообразия способов выражения. Здесь же должны найти своё решение вопросы, касающиеся оппозиций аналитического и синтетического, априорного и апостериорного как характеристики этих способов.
3.2.1. Синтаксис элементарного предложения
Согласно общим установкам Витгенштейна, можно было бы сказать, что вся философия логики – это ответ на вопрос, что может решить сама логика, а что нет. Применительно к анализу основного логического понятия, каковым выступает предложение, это означает, что его структуру нужно объяснить, отталкиваясь лишь от основного свойства предложения (способности быть истинным и ложным). Задача Витгенштейна станет яснее, если вернуться к Фреге и Расселу, устанавливающим структуру предложения с точки зрения категорий знаков, из которых оно построено. Рассел, например, все предложения делил на атомарные и молекулярные. Атомарность определялась тем, что в конструкции использовались знаки свойств и отношений, а молекулярность – составленностью из атомарных предложений и логических союзов. Категории скомбинированных знаков определяли и то, можно ли конструкцию вообще считать предложением, что было связано с ограничениями, накладываемыми теорией типов. По мнению Витгенштейна, такой подход собственно логическим назвать нельзя, поскольку он требует апелляции к значениям знаков, предполагая определённую структуру реальности. Собственно логический анализ предложений должен начинаться там, где о значении знаков речь ещё не идёт. Значения знаков должны вводиться с точки зрения самой возможности предложения. Другими словами, не предложение должно быть объяснено с помощью значения знаков, из которых оно построено, а все знаки и их значения должны быть объяснены с точки зрения возможности предложения. В Дневниках эта мысль выражена следующим образом: «Фреге говорит: Каждое законно образованное предложение должно иметь какой-то смысл; а я говорю: каждое возможное предложение является законно образованным, и если оно не имеет смысла, то это может быть только потому, что мы не наделили никаким значением некоторые из его составляющих. Даже если мы уверены, что сделали это» (Д, С.17(4)). Значения составных частей предложения должны определяться в зависимости от того, какую функцию они выполняют в предложении. В этом отношении предложение является не результатом комбинирования первоначальных знаков, а исходным пунктом логического анализа, который наделяет соответствующим значением составные части. При таком подходе вопрос заключается не в том, что обозначает каждый знак, а в том, как он обозначает [3.334]. Вопрос о как, предшествует вопросу о что, поскольку прежде чем придать знаку значение, необходимо установить его символические особенности, его способность обозначать. Подобный анализ Витгенштейн называет синтаксическим: «В логическом синтаксисе значение знака не должно играть никакой роли; должна быть возможна разработка логического синтаксиса без всякого упоминания о значении знака, предполагается лишь описание выражений» [3.33].
Предпринимая синтаксический анализ, будем отталкиваться только от одного свойства предложений – их способности к истинности и ложности. В самом понятии предложения нет ничего, что препятствовало бы конструированию предложений, состоящих из таких элементов, которые сами могли бы быть истинными или ложными. Однако описание структуры предложения, отталкивающееся от его истинности и ложности и предполагающее при этом, что истина и ложь уже могут характеризовать его элементы, содержало бы круг, поскольку в описании сложного уже предполагалось бы описание простого, которое ещё только нужно объяснить. Поэтому начинать следует именно с такого элемента, где истина и ложь в качестве характеристик появляются впервые. Здесь возникает концепция элементарного предложения. В первом приближении элементарное предложение можно было бы описать как предложение, которое не включает в качестве элементов другие предложения. Данного определения, ввиду отрицательного характера, явно недостаточно. Оно указывает, чем не является элементарное предложения, но оставляет открытым вопрос о том, что оно такое. Основной признак элементарного предложения вводится в афоризме 4.211: «Признаком элементарного предложения является то, что никакое элементарное предложение не может ему противоречить». Этот признак становится ясным, если учесть, что понятие ‘истина’ возникает именно с введением элементарного предложения. В этом смысле элементарные предложения безразличны друг к другу, каждое из них самостоятельно конституирует истину и ложь.
Несмотря на различие подходов, можно сопоставить элементарное предложение с атомарным предложением в смысле Рассела. Однако аналогия в данном случае была бы обманчивой. Следует учесть, что понятие элементарного предложения представляет собой априорную конструкцию и не связано с каким-либо конкретным примером. Это отличает позицию Витгенштейна от позиции Рассела, который вводил понятие атомарного предложения, ориентируясь на обыденный язык. Предложения типа “Это есть зелёное” рассматривались им как примеры простых предложений, составленных из указания на предмет и выражения для свойства. Позитивный признак в данном случае можно дополнить негативным. Поскольку нельзя указать такой составной части данного предложения, которая, в свою очередь, была бы предложением, оно не является молекулярным. Однако составленность из различных категорий знаков не может служить чётким критерием. Независимость атомарных предложений предполагала бы знание структуры значений тех знаков, из которых они построены. Но в компетенцию логики, конечно, не входит, например, вопрос о том, какова действительная структура цвета. Критерий же Витгенштейна является чисто логическим и не предполагает никакой ссылки на реальность. Напротив, он позволяет сугубо по логическим основаниям установить, является ли предложение элементарным: «Если логическое произведение двух предложений является противоречием, а предложения кажутся элементарными предложениями, то мы видим, что в данном случае видимость обманывает (например: А есть красное, и А есть зелёное)» (Д, С.114(7)). Правда, если следовать данному критерию, то затруднительно привести какой-либо пример элементарного предложения. Ни одно предложение обыденного языка, по-видимому, не является элементарным в этом смысле[125]. Но поскольку мы ориентируемся на априорную конструкцию, это не имеет никакого значения. Элементарное предложение предполагается спецификой логического анализа и затребовано сущностью языка.
Поскольку «простой – нерасчленённый – знак не может быть ни истинным, ни ложным» (Д, С.24(2)), постольку элементарное предложение логически расчленимо [4.032], оно состоит из частей. Именно конфигурация частей задаёт возможность истинности предложения. Несмотря на то, что части предложения могут определяться по-разному, в конечном счёте оно должно состоять из таких элементов, которые являются простыми и далее не разлагаются. «Составные части предложения должны быть простыми = Предложение должно быть полностью артикулировано» (Д, С.86(9)). Полная артикуляция определена требованием полноты анализа. Если логический анализ возможен, то он должен где-то заканчиваться. «Требование возможности простого знака есть требование определённости смысла» [3.23]. Полная артикуляция предложения единственна, поэтому «имеется один и только один полный анализ предложения» [3.25]. Относительно простых частей самих по себе, помимо того, что они различны, нельзя указать никакого другого различия, поскольку это требовало бы дополнительных характеристик, что свидетельствовало бы о их непростоте. В этом смысле все простые части предложения равнозначны. «Простые знаки, используемые в предложении, называются именами» [3.202]. Полностью проанализированное предложение состоит только из имён. Однако для адекватного понимания элементарного предложения необходимо учесть, что a priori можно знать только то, что оно состоит из имён, но a priori невозможно установить его полный состав. Как пишет Витгенштейн, «элементарное предложение состоит из имён. Но так как мы не можем указать количество имён с различными значениями, то мы не можем также указать состав элементарного предложения» [5.55]. Нельзя однозначно вводить знаковую форму, не зная, соответствует ли ей что-нибудь в действительности [5.5542]. Понятие элементарного предложения имеется помимо его особых форм, перечисление которых было бы совершенно искусственным [5.554; 5.555]. Такой искусственностью, например, страдает описание атомарных предложений Расселом, который в качестве примитивных знаков различал в них имена, с одной стороны, и знаки отношений различной местности с другой. Атомарные предложения классифицировались в зависимости от местности отношения. Но сразу возникает вопрос, отношения какой местности допустимы, если допустимы вообще? Это мог бы решить только опыт, к которому логика собственно апеллировать не должна [5.553]. Обращение к созерцанию непосредственно указывает на ложность разрабатываемого подхода. Вопрос о конкретных формах элементарных предложений может решить только применение логики, а не её априорная конструкция [5.557].
Хотя полный состав элементарного предложения a priori установить нельзя, тем не менее, поскольку предполагается расчленимость на простые составляющие, записать a priori знак элементарного предложения, указывая его отдельные элементы, всё-таки можно. При обозначении имён как ‘a’, ‘b’, ‘c’, элементарное предложение записывается как функция имён в форме ‘fa’, ‘Ф(a,b)’ и т.п. [4.24]. В данном случае Витгенштейн не выходит за рамки представлений Фреге и Рассела, понимая предложение как функцию его составных частей [3.318]. Однако сами составные части понимаются иначе. У Фреге и Рассела в знаках предложений ‘fa’, ‘Ф(a, b)’ имена ‘a’, ‘b’ обозначают самостоятельные индивиды, а знаки ‘f(…)’, ‘Ф(…, …)’ являются выражениями функций, которым соответствуют свойства и отношения. Синтаксический подход, разрабатываемый Витгенштейном, требует рассматривать знак элементарного предложения, не апеллируя к значениям его составных частей. С этой точки зрения имена являются знаками простых частей предложения, а не знаками самостоятельных индивидов. Согласно пониманию простых частей имена далее определить нельзя [3.26]. Это отличает их от функциональных знаков, указывающих на неопределённую часть элементарного предложения, которая может быть подвергнута дальнейшему анализу и разложена определениями [3.24]. Другими словами, знак предложения (Satzzeichen) включает указание на артикулированные и неартикулированные части, где неартикулированная часть может быть подвергнута дальнейшему разложению, возможно ad infinitum.
Допустим, учитывая указанные выше ограничения на предмет приведения примеров, что ‘Отелло познакомил Дездемону с Кассио’ является элементарным предложением. Предположим также, что ‘Отелло’ является простой частью данного предложения, и обозначим его ‘a’. Тогда знак данного предложения можно записать как ‘fa’, где артикуляция ограничивается указанием на одну простую часть и неопределённый компонент. Если продолжить анализ, то неопределённый компонент можно разложить определением, предполагая, скажем, что ‘Дездемона’ также является простой частью, и обозначив её как ‘b’. В этом случае ‘f(…)’ по определению будет соответствовать ‘Ф(…, b)’. Знак предложения тогда примет вид ‘Ф(a,b)’, где артикулированы уже две простые части. Проделав ту же процедуру с ‘Кассио’, получим знак ‘G(a,b,c)’, где артикулированы уже три простые части. Данный анализ можно продолжить далее, разлагая неартикулированную часть, обозначенную функциональным знаком ‘G(…, …, …)’. Отметим, что при таком подходе относительно функциональной части не предполагается, что она обозначает каким-то иным способом, чем имена. Функциональная часть лишь указывает на неопределённость присутствующую в элементарном предложении[126]. Здесь не должно вводить в заблуждение то, что ‘познакомил’, как обычно считается, предполагает какое-то иное значение, чем ‘Отелло’ или ‘Дездемона’. Этот элемент указывает на такую же неопределённость в элементарном предложении, как и выражение ‘познакомил Дездемону с Кассио’, и может быть посредством определений разложен далее. Смущение здесь может вызвать только то, что значение выражений ‘Отелло’ и ‘Дездемона’ предполагается простым, поскольку им соответствуют самостоятельные индивиды. Но как указывал ещё Рассел, значение таких имён ни в коем случае не является простым, поскольку они представляют собой скрытые дескрипции. К тому же значение в данном случае нас не интересует, мы лишь предполагаем, что эти знаки являются простыми. Точно так же относительно функционального знака предполагается, что он указывает на неопределённую часть, которая может быть разложена определениями. В этом отношении анализ должен показать, что и выражение ‘познакомил’ состоит из имён. Однако не дело логики осуществлять полный анализ каждого выражения. В логике можно лишь сказать, что полный анализ в конце концов должен привести к конструкции, которая состоит только из имён. Но поскольку a priori привести пример формы такой конструкции нельзя, логика при записи элементарных предложений ограничивается лишь указанием на не разлагаемые далее и определяемые части[127].
Знак предложения, вида ‘fа’, состоит из более простых частей. Однако поскольку простые части вводятся с точки зрения элементарного предложения, необходимо учитывать, что ни ‘f’, ни ‘а’ сами по себе никакой интенции значения не имеют. Их значение определяется только с точки зрения той функции, которую они выполняют в элементарном предложении. «Имя имеет значение только в контексте предложения» [3.3]. В данном случае этот тезис Витгенштейна можно назвать синтаксическим принципом контекстности. Понимать ‘а’ как имя можно только ориентируясь на целое предложение, где этот знак выражает часть, которую нельзя разложить далее определениями. То же самое относится к функциональному знаку, выражающему ещё не определённую часть предложения. Только в отношении того, что неопределяемо и ещё не определено в ‘fа’, имеет смысл говорить об имени и функции, приписывая ‘f’ и ‘а’ некоторую интенцию значения. Интенция значения знака задаётся формой его логико-синтаксического применения [3.327]. Знак ‘а’ может рассматриваться как имя только в том случае, если он применяется в комбинации с функциональными знаками, а знак ‘f’ – как функциональный знак только в том случае, если он комбинируется с именем. В этом смысле ни имена, ни знаки функций не являются самодостаточными, они предполагают друг друга. Осмысленное употребление имён как имён должно учитывать их соотношение с функциями, и наоборот [3.326]. В этом случае знак становится символом, он наполняется интенцией значения. Само по себе ‘f’или ‘а’ есть лишь чувственно воспринимаемый значок [3.32], в котором символ можно распознать только в контексте предложения, где становится ясным способ употребления данного значка[128].
Всё это говорит о том, что знаки имён и функций должны вводиться не сами по себе, как у Рассела и Фреге, а с точки зрения их общей формы употребления. Общая форма употребления имени или знака функции должна предполагать все их возможные вхождения в элементарные предложения. Здесь нужно учитывать относительную независимость знаков функций и имён. Несмотря на то, что в общем случае их интенция значения устанавливается только друг относительно друга, они могут входить в разные предложения в связи с другими именами и знаками функций соответственно. Предложения могут иметь сходное содержание, что и изображается сходством выражений. Например, в элементарные предложения ‘fа’ и ‘fb’ входит одно и то же ‘f’, здесь одна из частей предложений выразима одним и тем же образом в обоих случаях. «Выражение – всё то существенное для смысла предложения, что предложения могут иметь друг с другом общего» [3.31]. Сходство выражений определяется не только содержанием, но и формой. Именно форма свидетельствует об их символических особенностях. «Выражение предполагает формы всех предложений, в которые оно может входить» [3.311]. В этом отношении выражение выступает общим признаком некоторого класса предложений. Указать символические особенности знака – значит указать класс предложений, для которых он является общим выражением. В таком указании общее выражение остаётся постоянным, а всё остальное рассматривается как переменная [3.312]. В ‘fа’ и ‘fb’ есть общее выражение, которое можно использовать для указания на класс всех подобных предложений. В этом случае ‘fх’ является переменной предложения, а значения данной переменной суть все предложения указанного вида. Символическая особенность функционального знака фиксируется данной переменной через указание на то, что, сочленяясь с выражениями определённого вида (именами), он образует элементарные предложения. Описание значений переменной предложения показывает область осмысленного употребления функционального знака. То же самое относится к именам. Имя может быть общим выражением некоторого класса предложений, как, например, в ‘fа’ и ‘ga’. В этом случае для указания на такой класс можно использовать переменную предложения, где постоянным выражением будет имя, изображая эту переменную, скажем, так ‘yа’. Здесь переменная предложения также фиксирует символические особенности имён, показывая область их осмысленного употребления.
Подход Витгенштейна к переменным существенно отличается от подхода Фреге и Рассела, для которых переменная, присутствующая в предложении, всегда указывала на определённую категорию знаков, с заданным типом значения. Скажем, для Фреге в ‘fх’ переменная ‘х’ указывает на ненасышенную, требующую дополнения часть функции, являющейся неполным символом. Аргументное место данной функции может быть занято именами, полными выражениями, которые, сочленяясь с функцией, образуют предложение. Переменная ‘х’ в таком случае указывает на класс имён. Для Витгенштейна же «каждая переменная может рассматриваться как переменная предложения. (Включая и переменное имя.)» [3.314]. Т.е. переменной является не сам по себе ‘х’, а всё выражение ‘fх’. Значениями такой переменной будут не знаки особого типа, а предложения соответствующего вида. При таком подходе имя также характеризуется существенной неполнотой, поскольку его символические особенности определяются только в отношении возможности сочленения с функциональным знаком. Если собственным именам естественного языка придать функцию имён в смысле Витгенштейна, то всё сказанное можно проиллюстрировать следующим примером. Допустим, что “Сократ – философ” и “Платон – философ” являются элементарными предложениями. В качестве таковых на них можно указать как на возможные значения переменной ‘Философ(х)’. Точно так же предложения “Сократ – философ” и “Сократ – грек” можно указать как значения переменной ‘y(Сократ)’. Преобразовывая какую-либо часть элементарного предложения в переменную, мы всегда получаем переменную предложения, для которой существует класс предложений, являющихся всеми значениями данной переменной. Правда, этот класс может зависеть от того, что мы произвольно, как в приведённом примере, определили в качестве составных частей предложения, но «если мы превратим все те знаки, значение которых было определено произвольно, в переменные, то такой класс всё ещё существует. Но теперь он зависит не от какого-либо соглашения, а только от природы предложения. Он соответствует логической форме – логическому прообразу» [3.315]. Логическим первообразом предложений во всех указанных примерах будет переменная ‘yx’. Аналогичным способом можно указать логический первообраз предложений с двумя именами, скажем так: Y(x,y), тремя именами: Y(x,y,z) и т.п.
Логический прообраз фиксирует область осмысленного употребления возможного знака, делает его символом. Вводить знак как имя – значит учитывать прообраз тех предложений, в которых он выступает в качестве имени, т.е., сочленяясь с функциональным знаком, символизирует совершенно особым способом. Так же и в общем случае: введение знака предполагает описание вида тех предложений, в которых он может встречаться. Такой подход не предполагает апелляции к значениям знаков, а «есть только описание символов и ничего не высказывает об обозначаемом» [3.317].
Различие знаков, вводимое на уровне синтаксиса элементарного предложения, позволяет пересмотреть расселовскую теорию типов. Для того чтобы запретить образование бессмысленных выражений, Рассел фиксировал тип знаков, из которых строилось предложение, через указание их значений. Комбинация знаков, относящихся к одному и тому же типу (например, где функция выступала бы в качестве собственного аргумента), считалась бессмысленной, поскольку приводила к парадоксу. Однако если функция вводится способом, предложенным Витгенштейном, при котором предполагается описание способов её употребления, то парадокс становится невозможным, и при этом не требуется обращения к значениям знаков, поскольку «функция не может быть своим собственным аргументом, потому что функциональный знак уже содержит прообраз своего аргумента, а он не может содержать самого себя» [3.333]. Как это понимать? Рассел запрещает образование выражений вида ‘f(fx)’. Однако когда вводится ‘fx’, предполагается указание на прообраз ‘yx’, который фиксирует форму аргумента, указывая возможные значения переменной ‘fx’. Для ‘f(fx)’ прообраз будет другим, а именно ‘j(yx)’, соответственно другой будет и форма аргумента. Здесь вводит в заблуждение использование одного и того же ‘f’, но само по себе ‘f’ ничего не обозначает, символические особенности проявляются только в контексте[129]. Прообразы же показывают, что в связи с различием аргументов внутреннее и внешнее ‘f’ хотя и являются одинаковыми знаками, но представляют собой различные символы. Таким образом, если учитывать не только внешний вид знаков, но и их символические особенности, показываемые синтаксисом предложения, не только решается парадокс Рассела, теория типов вообще становится излишней. Тем самым из логики устраняется одна из наиболее существенных предпосылок, не имеющая чисто логического характера. Правильная трактовка синтаксиса элементарного предложения сама по себе делает невозможным образование бессмысленных выражений. Здесь не требуется помощи извне, связанной с онтологическими допущениями теории типов; и в этом смысле ‘логика заботится о себе сама’[130].
Следующий важный тезис, вытекающий из синтаксического принципа контекстности, транспонирует одну из центральных тем Заметок по логике и имеет исключительное значение для понимания вытекающей из синтаксиса онтологии. Витгенштейн утверждает, что хотя элементарное предложение состоит из имён, оно не является классом имён. Как указывалось ранее, этот тезис отталкивается от критики теории Рассела, рассматривающего предложение как комплекс знаков, связываемых в процессе суждения. С точки зрения ЛФТ в предложении символическую нагрузку несёт не само по себе наличие знака, а его отношение к другому знаку, поэтому предложение не комплекс значков, а факт. Как пишет Витгенштейн, «знак предложения состоит в том, что его элементы, слова, соотносятся в нём друг с другом определённым способом. Знак предложения есть факт» [3.14]. Факт, в отличие от простого комплекса значков, характеризуется внутренней динамикой. Когда Рассел записывает предложение как комплекс значков типа [a, b, R, xRy], значение здесь имеет только наличие значка определённого вида; их порядок устанавливает субъективная компонента, конституирующая истинность и ложность. Для Витгенштейна же определяющим является то, что предложение само по себе связано с действительностью. И эту связь задаёт возможность знаков соотноситься определённым образом. Факт имеет внутреннюю динамику; комплекс же, как совокупность значков, статичен. Проясним это, отталкиваясь от понимания имени.
Выше говорилось, что простые части элементарного предложения отличаются друг от друга только тем, что они различны, поскольку указание любого различия предполагало бы их непростоту[131]. Но как тогда их можно было бы различить? Только с точки зрения их отношения друг к другу. Поэтому наличие различных имён в предложении фиксируется через их отношение друг к другу при переходе от одной простой части к другой. Этот переход не всегда является непосредственным, но он должен быть обязательно; а именно: «Неверно: “Комплексный знак ‘aRb’ говорит, что а находится в отношении R к b”, верно следующее: “То, что ‘a’ стоит в определённом отношении к ‘b’, говорит, что aRb”» [3.1432]. В элементарном предложении символизирует как раз соотношение простых частей, а не наличие значков определённого вида, поскольку именно отношение одного знака к другому задаёт их символические особенности[132]. Различая имена, мы в первую очередь обращаем внимание не на наличие знака, а на его отношение к другому знаку. Можно сказать, что в предложении ‘aRb’ знаки ‘a’ и ‘b’ конституируются в качестве имен через отношение к неопределённой части ‘R’, а в качестве разных имён – через отношение друг к другу. В ‘fa’ ‘a’ конституируется в качестве имени через отношение к ‘f’ и т.п. Предложение – это комплексный знак, но не комплекс знаков. Знак ‘aRb’ может пониматься как комплекс значков, но тогда он более не является предложением[133]. «То, что знак предложения является фактом, завуалировано обычной формой выражения – письменной или печатной» [3.143], поскольку обычно ‘aRb’ мы склонны воспринимать как комплекс знаков, а не как динамическое соотношение его частей. Кроме того, поскольку любое выражение приобретает значение только в контексте предложения, комплекс вообще не должен рассматриваться как самостоятельное выражение, а характеризуется существенной неполнотой и на манер дескрипций Рассела может быть разложен определениями. Любой комплекс, хотя и не в действительности, но в возможности, согласно требованию полноты анализа может быть разложен до простых составляющих, каковыми выступают имена[134].
Синтаксические отношения, конституирующие символическую функцию знака, Витгенштейн, называет формальными или внутренними, а знаки, чьи символические свойства выявляются посредством таких отношений, – выражениями формальных понятий. Например, формальное или внутреннее свойство имени быть знаком простой части предложения конституируется его отношением к другим частям предложения[135]. Свойства подобного рода являются характеристическими чертами логической формы предложения, которая становится ясной, как только мы понимаем символическую функцию знаков, из которых оно построено. Например, понимание предложения ‘fa’ задаёт соотношение знаков ‘f’ и ‘a’ с точки зрения прообраза ‘yx’. Само это понимание не зависит от какого-то нового описания. Мы видим, как понимать предложение ‘fa’, когда смотрим на конфигурацию знаков. Логическая форма предложения показана знаком самого предложения. Таким образом, внутренние отношения и внутренние свойства знаков суть то, что показано знаком предложения, когда мы понимаем символические функции его частей.
Синтаксические, или внутренние, отношения характеризуют не только соотношение знаковых компонентов элементарного предложения. Во внутренних отношениях друг к другу находятся и элементарные предложения. Здесь появляются важные для Витгенштейна понятия логического места и логического пространства. В афоризме 3.4 говорится: «Предложение определяет место в логическом пространстве. Существование этого логического места гарантируется существованием одних только составных частей, существованием осмысленного предложения». Обосновывая обращение к геометрическим понятиям пространства и места, вернёмся опять к основному свойству элементарных предложений. Как уже говорилось, элементарные предложения взаимонезависимы. С точки зрения пространства взаимонезависимость любых предметов определяется тем, что они не могут занимать одно и то же место. Это же с геометрической интерпретации можно распространить на элементарные предложения. Место элементарного предложения предопределено его логическим свойством, а именно непротиворечивостью любому другому элементарному предложению. Следовательно, если дано элементарное предложение, то подразумеваются уже все предложения, которым оно не противоречит. Отношение элементарного предложения к другим элементарным предложениям внутреннее, поскольку само по себе элементарное предложение должно показывать, является ли другое предложение элементарным. Иными словами, элементарное предложение должно показывать формы тех предложений, которым оно не противоречит. Или, вернее сказать, элементарное предложение показывает, находится ли другое предложение вне его пространства, так же как геометрический предмет, даже будучи включён в комплекс других предметов, показывает, находится ли другой предмет вне его пространства. Отсюда следует, что «если даны элементарные предложения, то тем самым также даны все элементарные предложения» [5.524]. Так как с элементарным предложением вводятся все элементарные предложения, «предложение должно действовать на всё логическое пространство» (Д, С.54(10)).
Под ‘всем логическим пространством’ Витгенштейн понимает не только элементарные предложения, но и их конструкции. Логическое пространство должно допускать не просто отдельные ‘кирпичики’, но и ‘блоки’, где относительно последних должна быть решена возможность входить в ту или иную взаимосвязь. Логика должна показать возможность построения из элементарных составляющих определённых конструкций, которые предопределены возможностями самих составляющих. Само по себе элементарное предложение является независимым знаком, но в полном логическом пространстве должно быть определено его место относительно других предложений. Таким образом, логическое место задаётся не просто предложением, но и его возможным отношением к каждому другому предложению: «Знак предложения и логические координаты – это и есть логическое место» [3.41]. Здесь логические координаты суть не что иное, как способность предложения входить во взаимосвязь с другими предложениями, «иначе через отрицание, логическую сумму, логическое произведение вводились бы – в координации – всё новые элементы» [3.42].
Понимать это следует видимо так: в самом элементарном предложении должна быть уже предрешена его возможность образовывать связи с другими предложениями. В противном случае пришлось бы допустить нечто помимо предложений, а именно логические союзы, обладающие особым значением. Однако поскольку каждое предложение действует на всё логическое пространство, можно обойтись без введения таких элементов, поскольку на логическое пространство и его отдельные места можно указать с помощью самих предложений, не привлекая для этого знаки, обладающие собственным значением.
Поясним это на примере. Пусть ‘p’ является элементарным предложением. Его логическое место лежит вне всех других элементарных предложений. На логическое место вне самого ‘p’ можно указать отрицанием, поскольку «отрицающее предложение определяет логическое место с помощью логического места отрицаемого предложения, описывая первое как лежащее вне последнего» [4.0641] [136]. Здесь отрицание не имеет собственного значения. Оно есть лишь способ указания на особое место в логическом пространстве, но само в этом пространстве никакого места не занимает. Если взять два элементарных предложения, то можно указать пространство, которое объединило бы их логические места в одно целое, например с помощью логического умножения ‘p×q’. На это же пространство можно указать и по-другому, скажем, так ‘~(~pÚ~q)’. Но в том и другом случае новые элементы знаков не имеют собственного значения, а являются лишь способами указания.
Это предварительное объяснение логического пространства и логического места станет прозрачным ниже, когда будут рассматриваться операции истинности.
3.2.2. Изобразительная теория предложений
Возможность быть истинным и быть ложным, указывающая на расчленимость, играет определяющую роль в установлении структуры элементарного предложения. Однако определяющая роль синтаксиса в установлении интенции значения элементов предложения ещё не решает вопроса о том, как предложение ‘достаёт’ до действительности. Для предложения должна быть объяснена сама возможность быть истинным или быть ложным. Вне объяснения этой возможности интенция значения остаётся пустой, а все синтаксические категории – лишёнными смысла. И хотя логику затрагивает лишь способность предложений к истинности и ложности, вне объяснения этой способности синтаксическое описание ‘повисает в воздухе’. Действительность должна сравниваться с предложением [4.05], синтаксические единицы которого устанавливают границы выразимости. Витгенштейн принимает корреспондентский тезис о том, что истина и ложь характеризуют связь предложения с действительностью, но трактует его особым, отличным, например от Рассела, способом. Один из основных тезисов ЛФТ гласит: «Истинным или ложным предложение может быть только потому, что оно является образом действительности» [4.06]. В данном тезисе понятие действительности ещё не специфицировано; во всяком случае, он ещё не устанавливает, из каких элементов состоит действительность. Можно лишь сказать, что предложение способно представлять действительность. И в способе представления главную роль играет понятие образа (Bild): «Предложение – образ действительности. Предложение – модель действительности, как мы её себе мыслим» [4.01].
Привлекая для объяснения предложения понятие образа, Витгенштейн трактует последнее особым способом. Для правильного понимания, что такое образ, прежде всего следует учесть, что он не является репрезентацией предмета или класса предметов[137]. «Образ состоит в том, что его элементы соотносятся друг с другом определённым способом. Образ есть факт» [2.14; 2.141]. Для прояснения этого положения рассмотрим структуру, понимание которой не вызывает сомнения в своей образной природе. План Московского метрополитена предоставляет хороший пример. Обозначенные на плане пункты соответствуют действительным станциям, линии, соединяющие пункты, соответствуют отрезкам пути. Но суть изобразительного отношения этого плана не сводится к простому наличию элементов. Главное – в их взаимном расположении. Из плана ясно видно, какая станция предшествует, а какая следует за той, которая привлекла наше внимание, какая станция находится севернее, а какая южнее, как расположены относительно друг друга и относительно кольца отрезки, соединяющие эти пункты, и т.п. Во всех этих случаях видно, что изобразительное отношение к действительности фиксируется не простым наличием выделенных пунктов, но их отношением к другим элементам плана.
Сам способ, выбранный в типографии для удобства отображения, очевидно, не является единственным. Те же самые отношения, позволяющие с достаточной степенью свободы ориентироваться в подземных коммуникациях, можно отобразить и другим способом, используя иной тип графического отображения или, скажем, создав трёхмерную модель. Отобразительные особенности плана в любом случае фиксируются соотношением элементов (т.е. фактом), а не их наличием. «То, что элементы образа соотносятся друг с другом определённым способом, представляет, что так соотносятся друг с другом вещи» [2.15]. Образ характеризуется прежде всего структурой, т.е. соотношением элементов, которая может быть отображена различными способами. Но для того, чтобы образ был образом, необходимо, чтобы эта возможность была уже предрешена в выбранных способах отображения. Эту возможность Витгенштейн называет формой отображения: «Форма отображения есть возможность того, что предметы соотносятся друг с другом так же, как элементы образа» [2.151]. Форма отображения есть то общее, что образ имеет с действительностью. «То, что образ должен иметь общим с действительностью, чтобы он мог отображать её на свой манер – правильно или ложно – есть его форма отображения» [2.17]. Конкретная реализация формы отображения зависит от природы образа [2.171]. Если необходимо отобразить пространственные соотношения, то образ может иметь пространственный характер. Если же вдруг необходимо отобразить различную освещённость или окраску станций метрополитена, то в образе это можно было бы представить с помощью красок различной интенсивности, где одна была бы раскрашена ярче другой или обозначена красками иного оттенка. Однако форма отображения во всех случаях связана с соотношением элементов образа.
Если образ может отображать любую действительность, форму которой он имеет, то «свою форму отображения образ отображать не может. Он её обнаруживает» [2.172]. Пространственная форма плана метрополитена не отображается этим планом, она обнаруживается, когда мы на него смотрим. В данном случае образ не говорит, что он отображает метрополитен пространственно, он это показывает. Форма отображения – это не элемент образа, имеющий место наряду с другими элементами, она есть его внутренняя черта.
Итак, форма отображения, посредством которой образ ‘достаёт’ до действительности [2.1511], характеризует следующие свойства образа:
1. Композиционность. Образ должен состоять из набора элементов, которые соответствуют элементам отображаемого. «Предметам соответствуют в образе элементы образа» [2.13].
2. Репрезентативность. Способность образа представлять действительность основана на принципе замещения. «Элементы образа замещают в образе предметы» [2.131].
3. Одинаковая математическая сложность с отображаемым. В образе и отображаемом должно быть одинаковое количество различаемых элементов.
4. Общность формы с отображаемым. При всех возможных различиях в выбранных способах отображения соотношение элементов образа должно соответствовать соотношению элементов отображаемого.
Особый интерес в перечисленных чертах вызывает четвёртый пункт. ‘Все возможные различия в способах отображения’ означает, что можно создать различные образы одной и той же действительности. Как указывалось выше, образ может быть двумерным, трёхмерным или может использоваться другой способ отображения. Например, фразы диктора, объявляющие остановки, с временными промежутками между ними, также можно рассматривать как образ метрополитена. И в приведённых примерах цвет и пространство также есть лишь средства отображения. Они характеризуют частный вид формы отображения. Если же отвлечься от конкретных отобразительных средств, то останется лишь то, что образ должен иметь общим с действительностью, чтобы он вообще мог её отображать. Поэтому в форме отображения необходимо различать средства и структуру отображения. Пространство, временные промежутки, цветность и т.п. есть лишь средства отображения; структура же – это то, что остаётся помимо всех отобразительных средств. Общность формы, следовательно, разбивается на:
4.1. Общность отобразительных средств. Пространственный образ отображает пространственные соотношения элементов действительности; цветовой – цветовые и т.п.
4.2. Общность структуры. Структура характеризуется наличием элементов и их возможным соотношением, безразличным к конкретному способу изображения.
Модификация пункта 4 в виде пункта 4.2 в совокупности с первыми тремя даёт ещё одно важное понятие – понятие логической формы: «То, что каждый образ, какой бы формы он ни был, должен иметь общим с действительностью, чтобы он вообще мог её отображать – правильно или ложно – есть логическая форма» [2.18]. Образ, который имеет в виду исключительно структуру и для которого безразличен способ отображения, является логическим образом [2.181]. Способы отображения являются случайными. Образ же остаётся образом вне зависимости от выбранных способов отображения, поэтому «каждый образ есть также логический образ» [2.182], хотя не каждый образ является пространственным, цветовым или временным.
Форму отображения как логическую форму можно охарактеризовать с помощью математического понятия изоморфизма. Одинаковая математическая множественность вкупе с взаимнооднозначным соответствием элементов и их соотношений вполне это допускают. Логическая форма есть то, что образ, какой бы формы он не был, имеет общим с тем, что он отображает. В этом отношении логическую форму образа можно в традиционных понятиях охарактеризовать как то, в чём достигается adecvatio rei et intellecti. Здесь, правда, возникает одна проблема. Изоморфизм есть отношение эквивалентности (в определённом в §1.2.1 смысле). Изоморфные структуры образуют классы эквивалентности; в нашем случае классы структур, имеющих одинаковую логическую форму. Образ и отображаемое в этом смысле относятся к одному и тому же классу эквивалентности. И пространственный план метро, и образ, составленный из фраз диктора с временными интервалами, и само метро будут относиться к одному классу. Отталкиваясь от перечисленных выше черт, нетрудно заметить, что ввиду единства логической формы каждый из членов класса эквивалентности может рассматриваться как образ другого члена[138]. При таком понимании теряется смысл различения образа и отображаемого, поскольку они могут рассматриваться как образы друг друга. Так, само метро можно, в свою очередь, рассматривать как образ своего плана и т.п. Но если образ является действительно образом, то отношение отображения, стало быть, должно подразумевать асимметрию (в определённом в §1.2.1 смысле), а образ должен быть выключён из класса эквивалентности тех структур, образами которых он является. Решение достигается тем, что образ занимает внешнюю позицию по отношению к отображаемому. Внешняя позиция образа обеспечивается тем, что он может быть правильным и неправильным: «Образ изображает свой объект извне (его точка зрения есть его форма отображения), поэтому образ изображает свой объект правильно или ложно» [2.173]. Отображаемое же не может быть правильным или неправильным.
Если бы отношение отображения сводилось к изоморфизму, то образ был бы однозначно соотнесён с действительностью и не мог бы быть верным или неверным. В этом случае наличие образа гарантировало бы наличие соответствующего ему положения дел, и все образы были бы истинными a priori. Однако, рассматривая план метро, мы понимаем, что он может быть неправильным (скажем, вкралась типографская ошибка). Более того, мы знаем, в каком случае он был бы неправильным. «Образ изображает то, что он изображает, независимо от своей истинности или ложности, через форму отображения» [2.22]. Значит, образ соотнесён не с действительностью, но лишь с возможностью того, что он изображает; «образ содержит возможность того положения вещей, которое он изображает» [2.203]. Но в этой возможности присутствует и невозможность, поскольку каждый образ изображает не только то, как должны обстоять дела, чтобы он был верным, но и то, чего быть не должно, дабы он не оказался ложным.
С помощью образов можно изобразить все возможные положения дел, но из образов самих по себе нельзя узнать, какие из них действительны [2.224]. Из самого по себе плана нельзя узнать, верно ли он отображает структуру метрополитена. «Чтобы узнать, истинен или ложен образ, мы должны сравнить его с действительностью» [2.223]. Образ сам по себе обладает лишь как возможностью быть истинным, так и возможностью быть ложным. Отсюда следует, что «нет образа истинного a priori» [2.225].
Из вышесказанного вытекает ещё одна черта образа, связанная с формой отображения:
5. Биполярность. Форма отображения, проецируя возможное, а не действительное положение дел, вносит асимметрию в отношение образа к изображаемому, создавая возможность для образа соответствовать или не соответствовать действительности, быть верным или неверным, истинным или ложным [2.21][139].
Возможную проекцию, т.е. то, что образ изображает, Витгенштейн называет его смыслом [2.221]. Смысл образа понят, когда усвоены условия его возможной истинности и возможной ложности. Поэтому образ может быть понят и без того, чтобы была известна его истинность или ложность[140]. План Московского метрополитена, например, понятен и тому, кто не только никогда не пользовался московским метрополитеном, но даже не был в Москве.
Теперь следует вернуться к различию, обозначенному выше в пунктах 4.1 и 4.2. Средства отображения являются случайными, как случайны все те конкретные образы метрополитена, о которых речь шла выше. Пространственность, длительность, цветность и т.п. могут использоваться в форме отображения лишь потому, что изображаемое случайно обладает этими чертами. Но вот что не случайно: изображаемое должно состоять из элементов, находящихся в определённых отношениях. Логическая форма характеризует необходимые черты формы отображения. Можно было бы сказать, что логическая форма характеризует только интенцию значения элементов образа, оставляя за кадром способы, в которых эта интенция могла бы быть закреплена. В соответствии с вышесказанным Витгенштейн характеризует логическую форму как форму действительности [2.18]. Действительность может рассматриваться пространственно, с точки зрения времени или цвета, но все эти черты относятся к её содержанию. Эти содержательные черты находят выражение в форме отображения в виде используемых ею изобразительных средств. Отвлечение от изобразительных средств даёт чистую форму, логическую форму. В логической форме образа отражены необходимые черты действительности, тогда как средства, используемые при этом, являются случайными.
Случайные черты относятся к чувственно воспринимаемой стороне образа. Образ, в котором отражены только необходимые черты, т.е. в образе, где форма отображения является логической формой, является логическим образом. Логический образ действительности Витгенштейн называет мыслью [3]. Поскольку каждый образ является логическим, постольку он является мыслью. Возможность мыслить действительность означает возможность создать её образ [3.001]. Как образ «мысль содержит возможность того положения вещей, которое ей мыслится» [3.02] [141]. Другими словами, возможно всё то, что можно помыслить, или, что одно и то же, образ чего можно создать. То, образ чего создать нельзя, – невозможно, или, вернее, нельзя было бы помыслить, что оно собой представляет [3.03–3.0321]. Мысли как образу присущи все указанные выше черты, включая и ту, что нет мысли истинной a priori [3.04, 3.05]. Но любая мысль возможна a priori, поскольку можно создать образ того, что не только не находит подтверждения в опыте, но и превосходит любой конкретный опыт. Необходимые черты определяют только то, что может быть, но не то, что должно быть. Истинность мысли нельзя определить a priori, но мысль должна a priori допускать возможность своей истинности и ложности.
Именно с точки зрения понятия мысли вводится общее понятие предложения. Предложение – это образ, в котором мысль выражает себя чувственно воспринимаемо[142]. Из этого общего определения следует, что каждый образ с соответствующими изобразительными средствами будет предложением. «Мысль в предложении, – говорит Витгенштейн, – выражается чувственно воспринимаемо» [3.1]. Здесь характер чувственного выражения не специфицирован, а потому любая логическая форма, использующая любое чувственно воспринимаемое средство изображения, может рассматриваться как предложение. В этом случае пространственный, цветовой и т.п. образы метрополитена также являются предложениями[143]. Характерный пример приводит в Дневниках сам Витгенштейн:
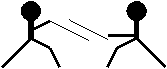 |
![]()
![]()
![]()
![]() «“
” : если в этом образе фигура с правой стороны представляет человека А, фигура
с левой стороны обозначает человека В, тогда целое может приблизительно
высказывать: “А фехтует с В”. В образном написании предложение может быть
истинным или ложным. Оно имеет смысл независимо от своей истинности или ложности.
В нём должно обнаружить себя всё самое существенное» (Д, С.23(1)).
Приведённый рисунок проецирует определённое положение дел, используя чувственно
воспринимаемые средства, и с точки зрения общего определения является
предложением. Выбранный способ изображения не является единственным,
единственна лишь логическая форма, которая должна отображать фиксированное
соотношение элементов. В этом смысле предложение логической формой показывает
необходимые черты действительности, но выражает их с помощью случайных средств.
Случайность средств не должна вводить в заблуждение. Исторически сложилось так,
что обычно для выражения предложения в языке используются звуковые или
письменные знаки, которые на первый взгляд не имеют ничего общего с
действительностью. Высказанные звуки или написанные буквы далеко отстоят от
образа, который своими очертаниями повторяет действительность. Но – как
приводит пример Витгенштейн – и нотная запись далеко отстоит от того, что она
изображает [4.011][144]. Можно также
вспомнить иероглифическое письмо, из которого, «не теряя существа отображения,
возникло буквенное письмо» [4.016]. Используя буквенную запись, мы применяем
лишь одно из возможных средств, при котором предложение не утрачивает образной
природы. Скажем, предложение формы ‘aRb’ воспринимается как
образ, «здесь знак, очевидно, есть подобие обозначаемого» [4.012].
«“
” : если в этом образе фигура с правой стороны представляет человека А, фигура
с левой стороны обозначает человека В, тогда целое может приблизительно
высказывать: “А фехтует с В”. В образном написании предложение может быть
истинным или ложным. Оно имеет смысл независимо от своей истинности или ложности.
В нём должно обнаружить себя всё самое существенное» (Д, С.23(1)).
Приведённый рисунок проецирует определённое положение дел, используя чувственно
воспринимаемые средства, и с точки зрения общего определения является
предложением. Выбранный способ изображения не является единственным,
единственна лишь логическая форма, которая должна отображать фиксированное
соотношение элементов. В этом смысле предложение логической формой показывает
необходимые черты действительности, но выражает их с помощью случайных средств.
Случайность средств не должна вводить в заблуждение. Исторически сложилось так,
что обычно для выражения предложения в языке используются звуковые или
письменные знаки, которые на первый взгляд не имеют ничего общего с
действительностью. Высказанные звуки или написанные буквы далеко отстоят от
образа, который своими очертаниями повторяет действительность. Но – как
приводит пример Витгенштейн – и нотная запись далеко отстоит от того, что она
изображает [4.011][144]. Можно также
вспомнить иероглифическое письмо, из которого, «не теряя существа отображения,
возникло буквенное письмо» [4.016]. Используя буквенную запись, мы применяем
лишь одно из возможных средств, при котором предложение не утрачивает образной
природы. Скажем, предложение формы ‘aRb’ воспринимается как
образ, «здесь знак, очевидно, есть подобие обозначаемого» [4.012].
Чувственно воспринимаемая сторона предложения называется знаком предложения (Satzzeichen), и «предложение есть знак предложения в своём проективном отношении к миру» [3.12][145]. Это означает, что сам по себе знак предложения не является образом, символической интенцией его наполняет мысль. Знак предложения – лишь возможный образ. Образом его делает мысль, проецируя на реальность верно или не верно. «Мы употребляем чувственно воспринимаемые знаки предложения (звуковые или письменные и т.д.) как проекцию возможного положения вещей. Метод проекции есть мышление смысла предложения» [3.11]. Знак предложения сам по себе полностью изоморфен тому, что по предположению он мог бы изображать, и поэтому, как указывалось выше, относится к классу эквивалентности структур, имеющих одинаковую логическую форму. Внешнюю по отношению к изображаемой действительности позицию знаку предложения придаёт мысль, делая его подлинным образом или символом. В знаке предложения элементы соединяются определённым способом, именно это делает его возможным образом, тем, что может выражать мысль. Поэтому «знак предложения есть факт» [3.14].
Предложение как образ характеризуется всеми указанными выше чертами. Оно комплексно. Элементы предложения (знаки) замещают предметы действительности [4.0311, 4.0312]. Предложение является фактом. Оно проецирует возможное положение дел, что является его смыслом [4.031], и бывает истинным или ложным соответственно тому, совпадает ли его смысл с действительностью или нет. Предложение характеризуется биполярностью, поскольку понимать предложение – значит знать, что имеет место, когда оно истинно, и что имеет место, когда оно ложно [4.024]. Поэтому понимание всей совокупности предложений охватывает всякую возможную реальность, а совокупность всех истинных предложений есть образ действительности, образ мира [3.01].
3.2.3. Онтологические следствия изобразительной теории
С точки зрения изобразительной теории становится ясным, почему логическую форму предложения Витгенштейн называет прообразом. Определяя символическую интенцию компонентов предложения, логическая форма задаёт основные черты реальности, которую предложение способно изображать. Предложение существенно связано с изображаемым [4.03], и, как говорилось выше, существенность этой связи обеспечивает adecvatio rei et intellecti.
Синтаксический анализ и изобразительная теория дают одинаковые результаты, самый важный из которых состоит в том, что логическая форма характеризует предложение как факт. Отсюда вытекает основной онтологический тезис ЛФТ: «Мир есть совокупность фактов, а не вещей» [1.1]. То, что имеет место в мире [1], предопределено средствами выразимости, а потому, ввиду общности логической формы, фактами могут изображаться только факты. Вернее сказать, нельзя было бы изобразить мир, если бы он состоял не из фактов, поскольку у образа и изображаемого тогда не было бы ничего общего.
Идею фактичности мира развивает следующий онтологический тезис, который гласит: «Мир определён фактами и тем, что это все факты» [1.11]. Совокупность всех фактов определяет как то, что имеет место в мире, так и то, чего в мире нет [1.12]. Если могут быть даны все факты, то тем самым определён весь мир, поскольку помимо фактов мир ничем не может быть определён. Определение мира ограничено средствами выражения этого определения. Все возможные образы, которые могут быть созданы, ограничены фактичностью изображения, и это задаёт фактичность изображаемого. Если мы собираемся говорить о мире, то, каким бы он ни был, мы с необходимостью должны предполагать, что он не выходит за рамки формы отображения. В противном случае нет образа, а значит, нет и мира.
Факт дан в логическом пространстве, т.е. в форме взаимосвязи с другими фактами. То, что имеет место, определяет и то, чего быть не может. Но форма взаимосвязи фактов не имеет отношения к предметному содержанию мира; «мир распадается на факты» [1.2] и только на факты. Наличие или отсутствие факта ничего не меняет в самой форме взаимосвязи, факты могут быть любыми, но пространство остаётся тем же самым. Логическое пространство задаёт возможность той или иной совокупности фактов, оставляя открытым вопрос о том, каких именно. Если этот вопрос решён, то тем самым определена вся действительность: «Факты в логическом пространстве суть мир» [1.13][146].
Понятие факта (Tatsache) разъясняется Витгенштейном с помощью понятия ‘состояние дел’ (Sachverhalt). В афоризме 2 говорится: «То, что имеет место, что является фактом, – это существование состояний дел». Отсюда следует, что, во-первых, любой факт есть композиция состояний дел, на это в данном афоризме указывает множественное число; во-вторых, факт есть композиция не произвольных состояний дел, но лишь тех, что реально существуют. То есть из всех возможных состояний дел факт образуют только реальные состояния дел. Поскольку понятие ‘состояние дел’ имеет определяющее значение в онтологии ЛФТ, начнём с разбора этих двух пунктов[147].
Первый пункт сводит сложность факта к его составляющим. Но следует учесть, что состояние дел как элемент композиции факта не является чем-то принципиально иным, нежели факт. Состояние дел имеет структуру факта и в этом смысле само является фактом. Только факт этот имеет элементарный характер. Состояние дел – это факт, который не распадается далее на другие факты; но именно состояние дел разложимо на то, что фактом уже не является [2.01]. Поскольку мир распадается только на факты [1.2], постольку анализ фактов в конечном счёте приводит к тому, что мир распадается на совокупность всех существующих состояний дел [2.04], находящихся в логическом пространстве [2.11], т.е. в форме взаимосвязи с другими состояниями дел. Но опять-таки эта форма взаимосвязи может оставаться постоянной, независимо от того, какие именно состояния дел окажутся действительными. Для иллюстрации вернёмся к примеру с метрополитеном. Последний как соотношение своих компонентов является фактом, но этот факт состоит из множества элементарных соотношений его компонентов. Здесь вся гамма взаимосвязей распадается на совокупность отдельных взаимосвязей, каждая из которых является фактом. Соотношение станций и веток распадается на отношения каждой станции к каждой ветке и т.д. Здесь последние являются более простыми составляющими первой. Дойдя до самых простых составляющих, мы получим состояния дел. Вся совокупность действительных состояний дел могла бы быть другой, и в этом отношении она определяет то, чего быть не может. Неизменным же остаётся пространство факта. Проектируя метрополитен, разработчик руководствовался одним пространством, но мог наполнить его разными состояниями дел. Хотя метрополитен даёт лишь пространственный пример, он без труда может быть распространён на общий случай. Факт – это совокупность состояний дел в логическом пространстве.
Поскольку факт есть лишь коррелят собственного образа, всё, что говорилось о состоянии дел, не трудно связать с изобразительной теорией. А именно, состояние дел – это тот минимальный факт, образ которого можно создать. Из определения предложения и элементарного предложения, данных выше, следует, что такой образ является элементарным предложением. Стало быть, состояние дел (Sachverhalt) – это онтологический эквивалент элементарного предложения[148].
Но любое элементарное предложение может быть истинным и может быть ложным. А это означает, что с ним соотнесено два различных состояния дел: одно из них делает элементарное предложение истинным, а другое ложным. Биполярность предложения выводит на второй из указанных выше пунктов. Состояние дел, которое делает предложение истинным, действительно существует; ложному же предложению соответствует несуществование состояния дел. Следуя терминологии Заметок по логике, существование состояний дел Витгенштейн называет положительным фактом, а несуществование – отрицательным. Совокупность всех положительных фактов определяет совокупность всех отрицательных фактов, поскольку «совокупность всех существующих состояний дел определяет также, какие состояния дел не существуют» [2.05]. Вместе положительные и отрицательные факты есть действительность [2.06], которая «в её совокупности есть мир» [2.063].
На первый взгляд может показаться, что последние выводы не стыкуются с
первоначальным утверждением, что мир есть совокупность существующих состояний
дел. Кажущаяся несообразность разрешается тем, что определение мира как совокупности
существующих состояний дел касается мира самого по себе, вне формы отображения.
Мир же,
как совокупность положительных и отрицательных фактов, – это взгляд на мир с
точки зрения формы отображения. Отрицательные факты как таковые вводятся только
в связи с тем, что форма отображения предполагает возможность ложности
предложений. И ложный образ действительно можно создать.
Как онтологический эквивалент элементарного предложения состояние дел имеет с ним одинаковую логическую форму, предопределяющую его внутренние черты. Первая черта естественным образом вытекает из независимости элементарных предложений. Поскольку ни одно элементарное предложение не противоречит никакому другому элементарному предложению [4.211], постольку «из существования или несуществования одного состояния дел нельзя заключить о существовании или несуществовании другого состояния дел» [2.062]. Действительно, раз истинность и ложность одного элементарного предложения не зависит от истинности или ложности другого, то независимым должно быть и то, что делает их истинными и ложными: «Состояния дел независимы друг от друга» [2.061]. Правда, отсюда, как и в случае элементарных предложений, вытекают затруднения с примерами. Видимо, ни один из фактов, который мы могли бы привести в качестве иллюстрации, не является состоянием дел в подлинном смысле. Но так же как элементарные предложения затребованы логическим анализом независимо от того, что им могло бы соответствовать в обыденном языке, так и состояния дел затребованы логическим анализом независимо от того, что можно обнаружить в опыте. Состояние дел – это предел логического анализа, предполагающий элементарный факт, способный сделать истинным или ложным элементарное предложение. И в этом смысле он свободен от примеров, так же как и элементарное предложение.
Вторая черта вытекает из того, что элементарное предложение есть соединение простых частей, имён. Точно так же и состояние дел распадается на простые части, предметы. Как говорит Витгенштейн, «состояние дел есть связь предметов» [2.01]. Понятие предмета (Gegenstand), наряду с понятием факта, является вторым основным онтологическим понятием ЛФТ. Характеризуя предмет в первом приближении, можно сказать, что он является значением имени[149]. Далее, неразложимость имени свидетельствует и о неразложимости предмета: «Предмет прост» [2.02]. Подобно тому, как элементарное предложение распадается на имена, так и состояние дел в конечном счёте распадается на предметы. Предмет – это далее неразложимый элемент состояния дел. Так же как разложимость элементарного предложения приводит к именам, так и полный анализ состояния дел приводит к предметам, и только к ним.
Однако для адекватного понимания последнего утверждения необходимо вспомнить сформулированный выше синтаксический принцип контекстности, который устанавливает, что позиция имени определяется в рамках целостного предложения. Аналогичным образом и позиция предмета определяется в рамках состояния дел. К существу предмета относится то, что он должен входить в состояние дел [2.011]. Это положение следует охарактеризовать как онтологический принцип контекстности[150]. Так же как форма имени предопределена его вхождением в элементарное предложение, так и форма предмета предопределена его вхождением в состояние дел. Возможность предмета входить в состояние дел должна быть предрешена в самом предмете [2.0121]. Из определения имён как простых составляющих элементарного предложения вытекает и определение их значения (предмета) как того, что является элементарным составляющим состояния дел. В данных определениях простая часть вводится с точки зрения состоящего из них целого. Форма предмета, определяющая его существо, есть форма его вхождения в состояния дел [2.0141]. Всё, что можно сказать о предмете, предзадано структурой состояний дел, в которые он может входить.
Возможность вхождения предмета в состояния дел – это не внешнее свойство, а внутренняя черта, которая определяет предмет в качестве предмета. Предмет может характеризоваться различными свойствами, но, прежде всего он должен быть, а быть для предмета как раз и означает возможность входить в состояние дел[151]. Отсюда следует, что каждый предмет существует в пространстве возможных состояний дел, которое определено их существованием и несуществованием [2.013]. Мы знаем предмет, когда известны его возможные вхождения в состояния дел [2.0123], зависящие от внутренних черт самого предмета [2.01231][152]. В данном случае опять наблюдается трансформация синтаксического принципа контекстности в онтологический. Действительно, знать имя просто как отождествляемый знак – значит знать все его возможные вхождения в элементарные предложения, а знать значение имени – значит знать все возможности предмета входить в состояния дел.
Если необходимость предмета входить в состояние дел определяет его зависимость, то возможность входить в разные состояния дел демонстрирует его независимость [2.0122]. На независимость предмета указывает уже характеристика имени как выражения [3.31], т.е. знака, который может в качестве элемента входить в другие знаки. Предметы сами по себе Витгенштейн характеризует как субстанцию мира [2.021]. Интересна мотивировка введения субстанции. Если бы таковой не было, «тогда было бы невозможно построить образ мира (истинный или ложный)» [2.0212]. В этом случае наличие у предложения смысла, т.е. верной или неверной проекции образа на действительность, определялось бы только истинностью или ложностью других предложений [2.0211]. Но истинность и ложность этих последних, в свою очередь, также требует определения, что порождает порочный круг. Поэтому, своей формой отображения предложение должно касаться чего-то такого, что выходит за его рамки. Состояние дел само по себе не может быть субстанцией. Оно проектируется в предложении как конфигурация того, что предложению не принадлежит и может входить в другие состояния дел, соответствующие другим элементарным предложениям[153]. В этом отношении субстанция мира независима от фактов [2.024].
Как субстанция предмет характеризуется простотой, постоянством и действительностью [2.02; 2.027], т.е. теми чертами, которые приписывает субстанции традиционная метафизика. В противоположность предметам состояния дел, образованные конфигурацией предметов, являются сложными, изменчивыми и неустойчивыми [2.0271]. В элементарном предложении состояние дел ‘составляется как бы на пробу’ [4.0031], именно поэтому оно обладает возможностью быть истинным и быть ложным. Образы могут изображать любые состояния дел, действительные или только лишь возможные. Но во всех этих образах должно быть что-то общее, чтобы их можно было сравнить друг с другом. Кроме того, во всех возможных образах мира должно быть нечто общее, то, что позволило бы соотнести их с действительным миром [2.022]. Это общее – постоянная форма – состоит именно из предметов. В различных образах мира конфигурируются одни и те же предметы, но конфигурируются по-разному. Действительный мир расположен в логическом пространстве возможных миров, проектируемых в различных образах, но это пространство задано постоянством формы, постоянством предметов[154]. Можно было бы сказать, что язык в предложениях может спроектировать всё что угодно, но не всё что попало. И ограничение как раз накладывается субстанцией мира[155].
И всё же независимость предметов является лишь относительной. Нечто нельзя рассматривать как предмет вне его возможного вхождения в состояние дел. Вернее было бы сказать, что тогда предмет нельзя было бы представить в знаковой системе. Действительно, позиция имени определяется только в контексте предложения, а потому и то, на что указывает имя, может определяться только в контексте состояния дел. Предмет можно изобразить только в структуре факта, вне этой структуры его изобразить нельзя. На возможность изображения предметов накладывает ограничения сама знаковая система; предмет существенно дан в структуре предложения, и вне этой структуры он дан быть не может. Используя аналогию с Кантом, можно было бы сказать, что предмет как субстанция есть Ding an sich, а в качестве Ding für uns он дан как элемент структуры состояния дел, т.е. в логическом пространстве.
Конфигурация имён есть элементарное предложение, а соответствующая конфигурация предметов есть состояние дел [3.21]. Способ, которым связываются имена, есть структура элементарного предложения, а способ, которым связываются предметы, есть структура состояния дел [2.032]. Отсюда становится ясным, почему Витгенштейн называет логическую форму возможностью структуры [2.033]. Прообраз задаёт возможную конфигурацию элементов предложения, а стало быть, и возможную конфигурацию элементов состояний дел, а в конечном счёте, поскольку факты состоят из состояний дел, и возможную конфигурацию фактов [2.034]. Полностью проанализированное предложение, как показано выше, состоит только из имён, соотношение которых характеризует предложение как факт. Также и соотношение предметов создаёт состояние дел. Как говорит Витгенштейн, «в состоянии дел предметы связаны друг с другом как звенья цепи» [2.03]. Полный анализ фактов в перспективе приводит только к предметам, к простым частям состояний дел. В цепи нет ничего помимо звеньев[156].
Здесь нужно учесть, что предметы как субстанция задают лишь постоянную форму мира, но не постоянство его материальных свойств [2.0231]. Звенья в цепи совершенно одинаковы, единственное, чем одна цепь может отличаться от другой, – это последовательность и форма их соединения. Указать на свойства, которыми предметы различались бы сами по себе, невозможно, так как приписать предмету свойство – значит вписать его в состояние дел. Поскольку состояния дел в возможных мирах различны, постольку и различные миры характеризуются разными свойствами. В качестве различных предметы, как и имена, конституируются только через отношение друг к другу: «Два предмета одинаковой логической формы – помимо их внешних свойств – различаются только тем, что они различны» [2.0233].
Последний абзац, вероятно, проще понять, если вспомнить то, что выше говорилось о структуре элементарного предложения. Полный анализ элементарного предложения приводит только к именам, но, поскольку такой полный анализ a priori провести нельзя, в его структуре можно только указать полностью определённые элементы (имена) и элементы, которые можно разлагать далее (функциональные знаки), возможно ad infinitum. Имена конституируются в качестве имён через отношение к функциональным знакам, а в качестве разных имён – через отношение друг к другу. Это же относится и к предметам, формирующим состояние дел, образом которого является элементарное предложение. Полный анализ состояния дел, который приводит к предметам и только к ним, есть лишь следствие логического требования определённости смысла, независимо от актуальной осуществимости такого анализа. В состоянии дел можно указать простые части (предметы), но лишь через их отношение к сложной, непроанализированной части. Различить же простые части состояния дел можно только через их отношение друг к другу. Изображая с помощью элементарного предложения состояние дел, мы посредством имён указываем на предметы, функциональная же часть указывает на комплексы предметов, образующих материальные свойства. Все подобные свойства, такие как пространство, время, цветность [2.0251], изобразимы только предложениями, как свойства чего-то. Подобно функциональным знакам, которые указывают на постоянную форму вхождения имени в элементарное предложение, материальные свойства являются постоянными формами вхождения предмета в состояние дел. Как пишет о материальных свойствах Витгенштейн, «они прежде всего изображаются предложениями – прежде всего образуются конфигурацией предметов» [2.0231]. Прообраз предложения показывает форму вхождения возможного предмета, изображая функциональной частью возможное материальное свойство, сформированное конфигурацией предметов. Так, в элементарном предложении ‘fa’ символические особенности ‘a’ заключаются в указании на предмет, а символические особенности ‘f’ – в указании на конфигурацию предметов, образующих материальное свойство предмета, на который указывает ‘a’.
Материальные свойства предметов Витгенштейн характеризует как внешние свойства, которые необходимо отличать от внутренних свойств. Различие внутреннего и внешнего определяется здесь с точки зрения возможного и действительного. Возможность входить в состояние дел образует внутреннее свойство предмета, тогда как его действительное вхождение в определённое состояние дел указывает некоторое внешнее свойство. Когда мы говорим, что предметы должны иметь какой-то цвет, занимать какое-то место в пространстве или иметь какую-то длительность, то здесь указывается внутреннее свойство: «Пространство, время и цвет (цветность) суть формы предметов» [2.0251]; т.е. они указывают возможность предметов входить в состояние дел. Но определённое пространство и время или эмпирически воспринимаемый цвет есть их вхождение в действительное состояние дел.
Различие возможного и действительного предрешено в различии прообраза и образа. Логическая форма типа ‘yа’ указывает на возможность вхождения предмета в состояние дел. Однако то, что ‘y…’ остаётся непроанализированным, определяет необходимость действительного вхождения в состояние дел. Например, в прообразе ‘y (Сократ)’ предопределено как то, что ‘Сократ’ указывает на предмет, так и то, что этот предмет должен обладать какими-то внешними свойствами.
Исходя из природы образа, то, что говорилось о внешних свойствах, нетрудно применить и к внешним отношениям. Различие здесь, как и в анализе элементарного предложения, лишь в количестве неразложимых далее элементов. В ‘Y(Сократ, Платон)’ указывается вхождение двух предметов в состояние дел, причем необходимость вхождения определяет возможность соотношения. То, что ‘Y(…, …)’ остаётся непроанализированным, задаёт возможность вхождения ‘Сократ’ и ‘Платон’ в состояние дел. Но характер вхождения, хоть он и необходим, остаётся непрояснённым до тех пор, пока не установлено ‘Y(…, …)’.
Природа прообраза, впрочем, указывает и на судьбу внешних свойств и отношений. В любом предложении элемент ‘y…’ или ‘Y(…, …)’ указывает лишь на невозможность актуального осуществления полного анализа, примеры которого привести невозможно [5.55]. И лишь в этом смысле данные элементы указывают на внешнее свойство или отношение. Однако синтаксис элементарного предложения в перспективе предполагает окончательную расчленимость на простые, далее не разлагаемые составляющие, подразумеваемые, как указывалось выше, требованием определённости смысла. Отсюда следует, что, так же как функциональный знак сводится к именам, так и внешние свойства и отношения должны сводиться к констелляциям предметов. Поскольку имя в качестве иного имени конституируется как иное через отношение к другим именам, постольку и предмет в качестве иного при окончательном анализе конституируется в качестве иного через отношение к другим предметам. Отношение к другим именам окончательно характеризует независимость имени, определяя возможность его вхождения в элементарные предложения. Также и отношение к другим предметам характеризует возможность вхождения предмета в каждое состояние дел, определяя его независимость.
Отсюда вытекает способность знания о предмете: Полностью знать предмет –значит знать все его возможные вхождения в отношения к другим предметам. Но эта способность не характеризует внешние свойства, которые определены совокупностью предметов. Знать отношение к совокупности ещё не значит знать отношение к элементам совокупности. Полностью предмет определяется только через соотношение со всеми возможными предметами, образующими все возможные совокупности. Но последнее, в указанном выше смысле, есть внутренне свойство предмета. Таким образом, полный анализ состояния дел должен редуцировать все внешние свойства и отношения предметов к их внутренним свойствам и отношениям. Полный анализ, хотя и невозможный актуально, потенциально приводит к редукции внешних свойств и отношений к внутренним[157] [4.1251]. Все внутренние отношения характеризуют предмет с точки зрения его вхождения во все возможные состояния дел. Актуальная неосуществимость вторых влечёт актуальную неосуществимость первых. Но с точки зрения логики, которая потенциально способна изобразить все возможные состояния дел, актуальная неосуществимость значения не имеет. Предполагая возможность изображения любого состояния дел, мы предполагаем возможность изображения вхождения предмета в любое состояние дел. Например, если предположить, что Сократ – это простой предмет, то знание того, что представляет собой этот предмет, предполагает знание возможности вхождения этого предмета в любое состояние дел. Вернее сказать, значение символа ‘Сократ’ задано его вхождением в такие предложения, как ‘Сократ – учитель Платона’, ‘Сократ – критик софистов’, ‘Сократ – муж Ксантиппы’ и т.д. возможно ad infinitum. Или, аналогично, данный предмет есть вхождение во все соответствующие состояния дел.
3.2.4. ‘Сказанное’ и ‘показанное’
Тема внутренних и внешних свойств и отношений получает развитие в концепции, устанавливающей различие между тем, что предложение говорит (gesagt), и тем, что оно показывает (gezeigt). Принципиальное различие внутренних и внешних черт предметов, определяемых в рамках состояния дел, говорит о принципиальном различии их выражения. Здесь необходимо заметить, что внутренние свойства и отношения, установленные в рамках состояния дел, соответствуют синтаксической структуре предложения, как она определена выше, а стало быть, представляют собой характеристики логической формы, которая тождественна у изображения и изображаемого. Возможность вхождения в предложение определяет позицию имён, а возможность вхождения в состояние дел определяет позицию предметов. Наличие в предложении первых указывает на наличие в состоянии дел вторых и т.п. Логическая форма есть то общее, что предложение имеет с действительностью, чтобы быть в состоянии её изображать. Но сама эта способность, как форма отображения, не изображается предложением [4.12], она им обнаруживается [2.172]. Предложение не изображает логическую форму как нечто внешнее, но изображает посредством неё. В этом позиция Витгенштейна радикально отличается от позиции Рассела. Логическая форма не есть объект наряду с другими объектами. Логическая форма есть способность образа быть образом. Предложения изображают действительность, но не изображают то, как они её изображают, они это показывают: «Предложение показывает логическую форму действительности» [4.121].
Действительно, синтаксис элементарного предложения наполняет символической интенцией компоненты предложения, но о самом синтаксисе в предложении речи не идёт. Предложение не говорит о своём синтаксисе, он сам выражается в языке [4.121]. Внутренние свойства (или черты [4.1221]) синтаксической структуры показывают внутренние свойства изображаемого факта. Но предложение не только показывает, оно нечто говорит. Содержанием своих компонентов оно говорит о внешних свойствах и отношениях.
Так, предложение ‘fa’ не говорит, что а – это предмет, а f – это внешнее свойство, своей логической формой оно показывает, что в предложении речь идёт о предмете а и свойстве f, и говорит, что а обладает свойством f. Пусть, например, предложение “Сократ – человек” является элементарным. Оно не говорит, что Сократ является предметом. Это показано наличием имени ‘Сократ’. Но оно говорит, что Сократу присуще свойство быть человеком. Также и в предложении ‘Ф(а,b)’ не говорится, что а и b – предметы, а Ф – отношение. Это показано символическими особенностями имён ‘a’ и ‘b’ и функционального знака ‘Ф’. Говорит же данное предложение об определённом отношении а и b.
С точки зрения показанного и сказанного различие внутреннего и внешнего можно провести и так: внутренние черты суть те, что показывают способность предложения изображать данное положение дел; внешние свойства и отношения суть те, о которых предложение говорит как о характеристиках именно этого положения дел. Скажем, предложение “Сократ учитель Платона” своей логической формой ‘Y(x,y)’ показывает, что речь может идти об отношении двух предметов, и говорит что Сократ и Платон действительно связаны отношением учителя и ученика.
Единство логической формы образа и изображаемого обнаруживается в том, что внутренние черты синтаксической структуры предложений показывают внутренние свойства фактов: «Существование внутреннего свойства возможного положения вещей не выражается предложением, но оно выражает себя в предложении, изображающем это положение вещей, посредством внутреннего свойства этого предложения» [4.124]. Так, наличие n имён показывает наличие n предметов. Функциональные знаки различной местности, показывают характер соотношения данных предметов. Предложение ‘Ф(а,b)’ показывает внутреннее свойство состояния дел, заключающееся в том, что в нём определённым образом соотнесены два предмета.
Как указывалось выше, логическая форма элементарных предложений характеризует их внутренние соотношения, в частности взаимную непротиворечивость. Эти внутренние соотношения также показаны синтаксисом, они обнаруживаются в структуре предложения [4.1211] и выражают его логическое место, определяемое взаимосвязью предложения с другими предложениями. Синтаксическая форма осуществления этой взаимосвязи будет рассмотрена ниже с точки зрения функций истинности и операций истинности. Пока же укажем лишь на то, что внутренние отношения предложений показывают внутренние отношения фактов: «Существование внутреннего отношения между возможными положениями вещей выражается в языке внутренним отношением между предложениями, которые их изображают» [4.125]. Например, предложения ‘fa’ и ‘ga’ показывают, что в них идёт речь об одном и том же предмете, входящем в разные состояния дел [4.1211]. Непротиворечивость элементарных предложений показывает независимость состояний дел. Возможность элементарного предложения образовывать связи с другими элементарными предложениями показывает возможность состояний дел образовывать факты и т.п.
Внутренние свойства и отношения, поскольку они являются чертами логической формы, Витгенштейн называет также формальными [4.122]; внешние свойства и отношения в противовес являются содержательными. Выражаясь языком традиционной логики, можно было бы сказать, что внешнее свойство выражается в предложении тем, что предмет подводится под определённое понятие, и это изображается с помощью функции [4.126]. Так в предложении “Сократ – человек” его структура ‘fa’ выражает тот факт, что предмет Сократ подводится под понятие Человека. В этом смысле каждый внешний признак фиксируется содержательным понятием, под которое подпадают определённые предметы. Данный факт может быть выражен осмысленным предложением. Но совершенно не то обнаруживается относительно формальных свойств. Наличие формального свойства нельзя выразить в предложении как подведение чего-то под содержательное понятие. Выражение “Сократ – это предмет” бессмысленно [4.1272]. То, что Сократ является предметом, показано функционированием знака ‘Сократ’ в качестве имени в осмысленных предложениях. Если говорить о понятиях, в которых фиксируются формальные свойства, то их нужно строго отличать от содержательных понятий: «Формальные понятия не могут, как собственно понятия, изображаться функцией. Потому что их признаки, формальные свойства, не выражаются функциями» [4.126]. То, что нечто подпадает под определённое формальное понятие, показано чертами того символа, с помощью которого выражается это нечто. Так, то, что а подпадает под формальное понятие предмет, показано тем, что ‘а’ функционирует в ‘fa’ в качестве имени. Точно так же бессмысленно утверждение: “fa – является фактом”. То, что fa является фактом, показано тем, что ‘fa’ является предложением.
Примеры можно множить и множить относительно других формальных понятий, скажем, комплекса, функции, состояния дел и т.п. Однако самое главное здесь то, что подпадение чего-то под формальное понятие выражено определёнными чертами соответствующего символа. Нечто является предметом, потому что оно выражено именем; нечто является внешним свойством, потому что оно выражено одноместной функцией; нечто является фактом, потому что оно выражено предложением, и т.д. Отсюда вытекает, как фиксируются формальные понятия: «Знак признака формального понятия является характерной чертой всех символов, значения которых подводится под это понятие» [4.126]. Другими словами, формальное понятие предмета выражается общей чертой всех имён, формальное понятие внешнего свойства выражается общей чертой всех одноместных функций, формальное понятие факта выражается общей чертой всех предложений и т.д.
Поскольку общая черта символа, как указывалось выше, согласно синтаксическому принципу контекстности фиксируется прообразом (логической формой), постольку «выражение формального понятия есть переменная предложения, в которой характерной является только эта постоянная черта» [4.126]. Например, общую черту имён, а значит, формальное понятие предмета, фиксирует переменная ‘fx’; общую черту одноместных функций, а значит, формальное понятие внешнего свойства, фиксирует переменная ‘ya’; общую черту определённого класса предложений, а значит, формальное понятие определённого класса фактов, фиксирует переменная ‘yx’ и т.д. Обозначая формальное понятие, соответствующая переменная своими значениями показывает то, что подпадет под это формальное понятие [4.127]. Так, переменная ‘fx’, обозначая формальное понятие предмета, своими значениями (скажем, ‘fa’, ‘fb’, ‘fc’) показывает, что a, b, c являются предметами. Как говорит Витгенштейн, «каждая переменная есть знак формального понятия. Потому что каждая переменная изображает постоянную форму, которой обладают все её значения и которая может пониматься как формальное свойство этих значений» [4.1271][158].
Проясняя последний тезис, луше всего обратиться к концепции неопределяемых Рассела. Формальные понятия суть те, что Рассел называл неопределяемыми, или примитивными идеями логики. Но если для Рассела значение неопределяемых фиксировалось исходным словарём, то Витгенштейн вводит символические особенности формальных понятий с точки зрения той функции, которую им придаёт логическая форма. Неопределяемость того или иного форрмального понятия обусловлена тем, что символичекие особенности выражающего его знака должны быть введены до всякого возможного определения. Неопределяемость фиксируется знаком, показано знаком. И если мы используем тот или иной знак, то его значение однозначно задано этим использованием. Действительно, явно указать значение знака – значит использовать этот знак, но тем самым уже указано его значение. Следовательно, всякое определение содержит круг и, по крайней мере, является излишним.
Отсюда вытекают особенности функционирования формальных понятий. Указание на формальное понятие может выражаться в предложении использованием переменных. Например, присутствие переменной ‘x’ в ‘($х)fx’ свидетельствует об использовании псевдопонятия предмет: «Там, где всегда правильно используется слово ‘предмет’, оно выражается в символической записи через переменное имя» [4.1272][159]. В предложениях без переменных (скажем, ‘fa’) на использование формального понятия предмета указывает логический прообраз данного предложения ‘fx’. Представленные примеры могут прочитываться как “Имеется предмет x, обладающий свойством f” и “Предмет а обладает свойством f” соответственно. Но нельзя употреблять формальные понятия как выраженные действительными функциями, поскольку там, где они употребляются «как собственно понятийное слово, возникают бессмысленные псевдопредложения» [4.1272]. Бессмысленно, например, говорить: “Имеется х, обладающий свойством быть предметом” или “а обладает свойством быть предметом”. Внутреннее свойство, выраженное формальным понятием, обнаруживает себя в функционировании знаков и не может быть явно установлено в каком-то предложении [160]. Указанные особенности относятся ко всем формальным понятиям и могут служить их отличительным признаком.
Формальные понятия вводятся с использованием соответствующих переменных. Присутствие переменных уже указывает на их возможную область определения. «Формальное понятие уже дано с предметом, который под него подводится» [4.12721], поэтому вводить одновременно формальное понятие и то, что под него подпадает, бессмысленно. Скажем, вводить как исходные переменную ‘x’ и константу ‘а’ для указания на предметы нельзя. Ведь правильное использование ‘x’ в ‘fx’ уже подразумевает, что её место может быть занято ‘a’. Если же ‘a’ вводится особо, то это должно подразумевать, что у а есть какое-то особое свойство. Но последнее может быть выражено только содержательным понятием в осмысленном предложении, а стало быть, ‘a’ тогда не было бы неопределяемым. Все неопределяемые должны вводиться со знаком формального понятия, в противном случае возникают псевдопредложения. Если помимо формального понятия предмет в качестве исходного вводится имя ‘Сократ’, то необходимо было бы указать, что Сократ является предметом, обладающим особым свойством. Но указание на то, что Сократ является предметом, бессмысленно, поскольку это должно показываться логической формой предложения, а обладание особым свойством выходит за рамки внутренних свойств и потому не может вводиться как логическое неопределяемое. Всё, что касается исходных понятий логики, должно вводиться на уровне формальных понятий, особенности которых показывает синтаксис.
В заблуждение, связанное с нарушением этого требования, как считает Витгенштейн, впадает Рассел, который наряду с понятием функции в качестве исходных вводит конкретные функции [4.12721]. В самом деле, чтобы предотвратить возникновение парадоксов, он в аксиоме сводимости постулирует существование предикативных формально-эквивалентных функций. Но это может свидетельствовать лишь о том, что формальное понятие функции изначально было введено неправильно. Зачем Расселу вдруг понадобилось уточнение? Если ориентироваться на синтаксис, то, как показано выше, правильное использование формального понятия функции само предотвращает появление парадоксов. Надлежащее использование переменных, определяемое логической формой предложения, само показывает, что всякая функция является предикативной.
Черты формальных понятий полностью определены синтаксисом предложений, который задаёт символическую интенцию знаков, с помощью которых построено это предложение. Но сами эти черты не могут быть выражены в каком-то другом предложении: «Вопрос о существовании формального понятия бессмыслен. Ибо ни одно предложение не может на такой вопрос ответить» [4.1274]. Предложение показывает символическую интенцию своих знаков, и тому, кто не видит, бесполезно давать объяснения, поскольку объяснение должно опираться на предложения, символические особенности которых уже известны. Но тому, кто не понимает символических особенностей первых, ещё более неясными были бы символические особенности вторых. В этом случае лишь возникла бы распространённая методологическая ошибка: Объяснение неизвестного через ещё более неизвестное.
Здесь находит своё завершение тема, высказанная в Заметках, продиктованных Дж.Э. Муру. Синтаксис может быть только показан предложениями, но не может быть высказан в других предложениях[161]. «То, что может быть показано, не может быть сказано» [4.1212], поскольку образ тогда должен был бы выйти за рамки своей формы отображения [4.12]. Образ в этом случае опредмечивался бы, выступал бы не как факт, а как предмет, которому приписываются свойства, что бессмысленно [4.1241]. Говорить о логической форме можно было бы только в том случае, если бы она выступала в качестве обладающего внешними свойствами предмета, но тогда, необходимо было бы выйти за рамки возможности изображения, необходимо было бы «поставить себя вместе с предложениями вне логики, т.е. вне мира» [4.12]. Синтаксис нельзя объяснить в том смысле, что нельзя сформулировать правила функционирования знаков. Его можно только прояснить, показывая, как функционируют знаки: «Теперь мы понимаем наше чувство, что обладаем правильным логическим пониманием, если всё правильно в нашем знаковом языке» [4.1213], где символику определяет не наличие знака, а его отношение к другим знакам. Символическую интенцию элементов предложения характеризует только синтаксическая структура, т.е. логическая форма. И как форма отображения она не может быть высказана предложением, она им показана.
3.2.5. Операциональный принцип контекстности
Изложенные выше концепции Витгенштейна оставляют открытым вопрос о том, как гипотетические конструкции, привлекающие формальные понятия предмета или состояния дел, применимы к языку повседневного общения. Этот вопрос вовсе не является праздным. В рамках общей постановки проблемы, где Витгенштейн пытается объяснить сущность любого языка, открытой остаётся задача объяснения того, каким образом гипотетические конструкции могут быть использованы в отношении естественного языка. Действительно, ни имена, ни предметы не могут предоставить ни одного примера. То, что в естественном языке понимается под именем или предметом, весьма далеко отстоит от того, что в ЛФТ понимается как подпадающее под соответствующие формальные понятия. Непосредственное следование логическому синтаксису далеко увело бы от потребностей языка повседневного общения. Но это не может служить аргументом в пользу того, что связь естественного языка с реальностью имеет какой-то иной характер. Логика, как выражение целесообразности любого языка, показывает символические особенности всякого знака, как гипотетического, так и реального[162]. Вопрос о сущности языка не решается Витгенштейном специально для идеального символического языка, но если такой вопрос может быть решён вообще, он должен решаться для языка как такового. В перспективе ответить нужно лишь на один вопрос: “Можем ли мы по праву применять логику, как она изложена, скажем, в Principia Mathematica к обычным предложениям без оговорок?” (Д, С.87(4)). Проблема, собственно, в том, что, ориентируясь на идеальные структуры, можно смоделировать логическую форму реальности и показать её в синтаксической структуре идеального языка. Но как решить эту проблему для языка повседневной жизни?[163] Структура витгенштейновой онтологии включает предметы, которые по определению просты и образуют субстанцию мира, но нельзя привести ни одного примера подобного предмета. В этом заключается их гипотетичность. То же самое относится к состояниям дел. Стало быть, если онтология имеет лишь идеальный, гипотетический характер, то и проблемы, поставленные Витгенштейном, могли бы быть решены только для того языка, который соответствует такой реальности, т.е. также имеет гипотетический, идеальный характер. Обыденный же язык соотносится с объектами повседневности, очевидно являющимися составными, и оперирует выражениями, которые мы считаем именами, но которые, с точки зрения гипотетически простых предметов, именами являться не могут.
Эту проблему Витгенштейн отчётливо ставит в подготовительных материалах. В частности, он пишет: «В чём состоит моя основная мысль, когда я говорю о простых объектах? Разве ‘составные предметы’ не удовлетворяют в конце концов как раз тем требованиям, которые я, казалось бы, устанавливал для простых предметов? Если я даю этой книге имя ‘N’ и говорю теперь о N, разве отношение N к такому ‘составному предмету‘, к таким формам и содержаниям по существу не то же самое, которое я мыслил себе между именем и простым предметом?» (Д, С.80(2)) И далее: «Совершенно ясно, что я фактически могу соотнести имя с этими часами, как они лежат здесь передо мной и идут, и что это имя будет иметь значение вне какого бы то ни было предложения в том самом смысле, который я вообще когда-либо придавал этому слову, и я чувствую, что это имя в предложении будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к ‘именам простых предметов’» (Д, С.80(10)).
Решение этой проблемы можно найти в тех же подготовительных материалах. То, что может рассматриваться и обычно рассматривается в качестве имени, как говорит Витгенштейн, «сводит своё полное комплексное значение в единицу» (Д, С.92(4)). Но позиция имени определена лишь синтаксической разработкой структуры, т.е. в контексте, так как «синтаксическое употребление имён полностью характеризует форму составных предметов, которые они обозначают» (Д, С.81(9)). Комплескность значения не может служить аргументом, поскольку значение знака задаёт синтаксис. Если на что-то указывает имя, то с точки зрения такого указания оно должно рассматриваться как простое. Последнюю цитату вполне можно рассматривать как формулировку принципа контекстности. Правда, тезис, что имя обретает значение только в контексте предложения, имеет здесь операциональный смысл, который позволяет использовать концептуальные основания и построенные на их основе функциональные исчисления к выражениям обыденного языка. Вопрос о действительном значении элементов предложения решает их применение. Если при обращении к естественному языку в предложении “Сократ – человек” выражение ‘Сократ’ с точки зрения синтаксической структуры рассматривается как имя, это обеспечивает восприятие его значения в качестве простого. В последнем случае принцип контекстности есть не что иное как мостик, перекинутый от идеальных моделей к многообразию повседневной жизни. Если выражение, пусть и обозначающее комплексный предмет, в контексте предложения можно использовать как структурный элемент, соответствующий имени, значит, к нему применим анализ, аналогичный анализу последнего. То же самое касается и остальных элементов предложения.
3.3. Знаковая система: Логика предложений
Элементарные предложения и их структура – это минимальный предел логического анализа. Но знаковая система ими не исчерпывается. Язык включает более сложные образования, которые содержат элементарные предложения в качестве своих конституент. Однако Витгенштейн даёт такое объяснение сущности всякого описания мира, которое не требует новых элементов. Здесь наследуется то отношение к элементарным предложениям, которое было сформулировано уже в Заметках по логике: «Введение элементарных предложений является основополагающим для понимания всех других видов предложений» [4.411].
Эта идея основана на понимании характера логического пространства. Определяя свой подход к анализу неэлементарных предложений, Витгенштейн говорит: «Возможность предложения основывается на принципе замещения предметов знаками. Моя основная мысль заключается в том, что “логические константы” ничего не замещают. Что логику фактов нельзя заместить» [4.0312]. Предложения изображают состояния дел в логическом пространстве, т.е. с точки зрения их возможной связи друг с другом. Но сами эти связи собственного значения не имеют; их роль исчерпывается внутренними отношениями между предложениями, когда указывается логическое место последних. Предложения замещают факты в логическом пространстве, но само пространство не может быть замешено. Логическое пространство не изображается; оно показано внутренними отношениями предложений. Нужно только создать адекватную систему записи, которая бы демонстрировала, что так называемые ‘логические константы’ ничего не обозначают и такая запись в ЛФТ представлена.
3.3.1. Знак предложения
То, каким образом в новой записи конструируются знаки предложений, предварим несколькими общими соображениями. Каждое элементарное предложение отображает некоторое состояние дел. При этом «если элементарное предложение истинно, соответствующее состояние дел существует, если же оно ложно, то такого состояния дел нет» [4.25]. Поскольку совокупность всех существующих состояний дел есть мир [2.04], постольку «указание всех истинных элементарных предложений полностью описывает мир» [4.26]. Но в компетенцию логики не входит вопрос о том, какие именно элементарные предложения истинны. Относительно каждого элементарного предложения можно лишь констатировать возможность существования или несуществования соответствующего состояния дел. Именно эта возможность определяет наличие у предложения двух полюсов – истины и лжи, т.е. предложение, вне определённого конкретным опытом его отношения к действительности, может быть как истинным, так и ложным.
С каждым состоянием дел соотнесено две возможности: его существование и его несуществование. Если действительность состоит из n числа состояния дел, тогда, для n числа событий таких возможностей будет 2n. Возьмём теперь произвольное элементарное предложение p. Соответствующее ему состояние дел может как существовать, так и не существовать. Эти два варианта образуют истинностные возможности предложения p. При реализации первой оно будет истинным, при реализации второй – ложным. Двум произвольным предложениям p и q будет соответствовать возможность существования и несуществования двух состояний дел. Различная комбинация этих возможностей даёт четыре варианта: оба состояния дел существуют; первое состояние дел не существует, но существует второе; существует первое, но не существует второе; оба состояния дел не существуют. Указанные четыре варианта образуют четыре возможности истинности предложений p и q. В общем случае, поскольку существование и несуществование состояний дел указывают на истинностные возможности элементарных предложений, соответственно, возможностей истинности n элементарных предложений будет 2n. Если взять одно предложение p, то оно может быть истинным и ложным (т.е. 21=2), если взять два предложения p и q, то здесь возможны четыре варианта (т.е. 22=4), а именно: оба предложения истины; первое – истинно, второе – ложно; первое – ложно, второе – истинно; наконец, оба ложны. Для трёх предложений (скажем p, q, r) возможностей будет восемь и т.д.
Удобная запись таких вариантов предоставляется предложенными Витгенштейном таблицами истинности. Например, для одного, двух и трёх предложений они будут выглядеть следующим образом:
|
p
|
|
p |
q |
|
p |
q |
r |
|
И |
И |
И |
И |
И |
И |
||
|
Л |
Л |
И |
Л |
И |
И |
||
|
|
И |
Л |
И |
Л |
И |
||
|
Л |
Л |
Л |
Л |
И |
|||
|
|
|
И |
И |
Л |
|||
|
Л |
И |
Л |
|||||
|
И |
Л |
Л |
|||||
|
Л |
Л |
Л |
(таб.1)
Здесь ‘И’ и ‘Л’ означают истину и ложь соответственно, а каждая строчка, идущая под элементарными предложениями, – одну из истинностных возможностей.
Каждая из истинностных возможностей, в свою очередь, может быть как согласована, так и не согласована с возможностями существования соответствующих состояний дел относительно аналогичной согласованности каждой другой истинностной возможности. Одним из вариантов такого согласования может, например, быть случай, когда согласована истинностная возможность, при которой все элементарные предложения истинны, и не согласованы все другие возможности, или случай, когда эта же возможность не согласована, но согласованы все другие, и т.д.
С точки зрения возможной согласованности и несогласованности Витгенштейн вводит общее понятие предложения: «Предложение есть выражение согласования и несогласования с возможностями истинности элементарных предложений» [4.4]. Например, предложение, построенное из элементарных предложений p и q, выражает возможность согласования и несогласования любой из четырёх истинностных возможностей для p и q, учитывая при этом возможность согласования или несогласования каждой из остальных трёх возможностей. Поскольку для n элементарных предложений имеется 2n истинностных возможностей, каждая из которых допускает возможность согласования и несогласования относительно возможности согласования и несогласования каждой другой истинностной возможности, всего имеется (22)n возможностей согласования и несогласования. Для одного элементарного предложения p таких возможностей будет 4, для двух элементарных предложений p и q – 16 и т.д. Эти возможности легко упорядочить. Если для удобства обозначить согласование и несогласование ‘И’ и ‘Л’ соответственно, то варианты для одного элементарного предложения p результируются в таблице 2:
|
1
|
2 |
3 |
4 |
|
И |
И |
Л |
Л |
|
И |
Л |
И |
Л |
(таб.2)
Варианты для двух элементарных предложений p и q предоставляет таблица 3:
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
Л |
Л |
Л |
Л |
Л |
Л |
Л |
Л |
|
И |
И |
И |
И |
Л |
Л |
Л |
Л |
И |
И |
И |
И |
Л |
Л |
Л |
Л |
|
И |
И |
Л |
Л |
И |
И |
Л |
Л |
И |
И |
Л |
Л |
И |
И |
Л |
Л |
|
И |
Л |
И |
Л |
И |
Л |
И |
Л |
И |
Л |
И |
Л |
И |
Л |
И |
Л |
(таб.3)
Каждый из столбцов этих таблиц можно рассматривать как указание на одну из возможностей согласования и несогласования соответствующих истинностных возможностей. Например, истинностные возможности для двух предложений p и q, представленные в таблице 1, могут быть сопоставлены с любым столбцом из таблицы 3. Если, скажем, взять третий столбец, то в этом случае согласованы все истинностные возможности элементарных предложений p и q за исключением той, при которой p – истинно, а q – ложно. Выразить это обстоятельство можно следующим образом:
|
p
|
q |
|
|
И |
И |
И |
|
Л |
И |
И |
|
И |
Л |
Л |
|
Л |
Л |
И |
(таб.4)
Здесь каждая строчка двух первых столбцов выражает истинностные возможности p и q, а третий столбец – их согласование и несогласование. Учитывая приведённое выше определение [4.4], таблица 4 есть не что иное, как знак некоторого предложения. Этот знак как раз и выражает как именно согласованы и не согласованы истинностные возможности p и q. Согласованность и несогласованность истинностных возможностей p и q представляют собой условия истинности предложения построенного из p и q. Можно сказать, что предложение, знак которого представлен в таблице 4, истинно при истинности p или ложности q и ложно при ложности q и истинности p. Обобщая, получаем: «Выражения согласования и несогласования с возможностями истинности элементарных предложений выражают условия истинности предложения» [4.431]. Отсюда вытекает общее определение предложения: «Предложение есть выражение своих условий истинности» [4.431].
Для правильного понимания таблицы 4 необходимо учесть, что она является целостным знаком, компоненты которого не имеют собственного значения. ‘И’ и ‘Л’ не обозначают никаких предметов, а служат лишь выражением, во-первых, истинностных возможностей, а также, согласованности и несогласованности, во-вторых. В этом отношении они играют роль меток, не имеющих собственного значения, но являющихся частью целостного знака. Если согласованность истинностных возможностей можно выразить иным способом, то наличие определённого количества и расположение ‘И’ и ‘Л’ не имеет никакого значения. Поэтому, не изменяя существа дела, знак, изображённый таблицей 4, можно представить в другом виде. Например, если последовательность истинностных возможностей p и q закреплена однозначно (так, как это имеет место в таблице), то условия истинности рассматриваемого предложения можно выразить знаком ‘(ИИЛИ)(p, q)’, где последовательность ‘И’ и ‘Л’ в первой скобке заменяет третий столбец таблицы. Или же, отмечая отсутствие согласования простым пропуском ‘И’, данному знаку можно придать вид: ‘(ИИ–И)(p, q)’.
Использование условий истинности при введении предложений не является изобретением Витгенштейна. Указание на такие условия использовал уже Г.Фреге при объяснении выражений своего шрифта понятий. Например, таблица 4 соответствует тому, как объясняется ‘|¾ pÉq’[164]. Отталкиваясь от этого, можно установить аналогию между объяснениями выражений знакового языка у Фреге–Рассела и знаками предложений, используемыми в ЛФТ. К этой аналогии мы вернёмся ниже. Необходимо, однако, заметить, что новация Витгенштейна в том, что таблицу 4 он рассматривает не как объяснение, а именно как знак предложения[165]. Предположение о том, что таблицы истинности есть просто иная запись того, что имели в виду Фреге и Рассел, было бы неверным[166]. Внешняя аналогия в данном случае вводит в заблуждение. Новая запись прежде всего предоставляет возможность реализации тех идей, которые отличают философию логики Витгенштейна от концепций его учителей. В этой записи находит свою реализацию совершенно определённая мысль, а именно: то, как предложение согласовано с действительностью, должно быть видно из самого знака предложения. Что же показывает знак в данном случае? Во-первых, он показывает, что предложение биполярно, т.е. может быть как согласовано, так и не согласовано с соответствующими состояниями дел. Во-вторых, он показывает, какое место предложение оставляет факту. Поскольку истинность элементарного предложения указывает на существование состояния дел, а ложность на несуществование, то согласованность сложного предложения показывает, какая комбинация существования и несуществования возможна, а какая – нет. Как говорит Витгенштейн, «предложение, образ, модель подобны в отрицательном смысле твёрдому телу, которое ограничивает свободу движения другого тела; в положительном смысле подобны пространству, ограниченному твёрдой субстанцией, в котором помещается тело» [4.463]. Наконец, табличный способ записи демонстрирует, что знак может вообще не определять действительность и лишь по видимости являться предложением. При упорядочивании в ряд, как в таблицах 2 и 3, этот случай соответствует двум крайним вариантам условий истинности, а именно: когда предложение истинно при всех условиях, и когда оно при всех условиях ложно.
|
p
|
q |
|
|
p |
q |
|
|
И |
И |
И |
|
И |
И |
Л |
|
Л |
И |
И |
|
Л |
И |
Л |
|
И |
Л |
И |
|
И |
Л |
Л |
|
Л |
Л |
И |
|
Л |
Л |
Л |
(таб.5)
Знаки типа представленных в таблице 5 или записанных в виде ‘(ИИИИ)(p, q)’ и ‘(ЛЛЛЛ)(p, q)’ Витгенштейн называет тавтологией и противоречием соответственно. «Тавтология оставляет действительности всё бесконечное логическое пространство, противоречие заполняет всё логическое пространство и не оставляет действительности ни одной точки» [4.463]. Таким образом, таблицы истинности дают более удобный, чем ab-запись, использованная в Заметках, продиктованных Муру, способ выражения того, что каждая тавтология должна сама показывать, что она является тавтологией.
В сравнении с записью, используемой Фреге и Расселом, таблицы истинности обладают одним несомненным достоинством. Язык Principia Mathematica ориентирован на естественный язык и строится по его образцу и подобию. Логические константы типа ‘Ú’ и ‘~’, применяемые Расселом при его построении, получены формализацией фрагментов естественного языка и являются своего рода экстрактами. Такой подход оставляет открытым вопрос о полноте выявленных логических связей и установлении всех возможных форм предложений. И хотя эта проблема разрешима, её решение требует дополнительных средств, в частности апелляции к условиям истинности, которые рассматриваются как объяснение смысла логических союзов. Таблицы истинности, напротив, без каких либо дополнительных объяснений позволяют предвидеть форму любого возможного предложения. Все знаки конструируются a priori единым способом и легко упорядочиваются в ряд. Количество возможных выражений согласования и несогласования равно количеству возможных согласований и несогласований; (22)n возможностей согласования и несогласования n элементарных предложений соответствует (22)n возможностей выражения этих возможностей. Иными словами, возможно (22)n знаков предложений, построенных из n элементарных предложений. Процедура, используемая Витгенштейном, не требует никакого языкового опыта, а ориентируется на априорную сущность предложения. Использование логических союзов становится совершенно необязательным, чем достигается большая общность рассмотрения, т.е. логика сохраняла бы своё значение и в том случае, если бы не было никаких логических констант в смысле Фреге и Рассела.
С точки зрения эвристической ценности результаты табличной записи не сводятся к вышеперечисленным, но имеют радикальное следствие для всей философии логики. Главное в том, что новый способ записи предложений отвечает методологическим устремлениям Витгенштейна, позволяя свести всё содержание логики к уровню показанного. Этим достигается решение целого ряда проблем, поставленных ещё в Заметках. С точки зрения внутренних отношений между знаками, во-первых, разводятся понятия функции истинности и операции истинности, смешение которых лежит в основании неправильного объяснения у Фреге и Рассела логических констант как знаков особых логических объектов. Во-вторых, достоверность логического вывода объясняется таким образом, что излишними становятся законы дедукции, используемые Фреге и Расселом для его оправдания. В-третьих, уточняется понятие вероятности, которая рассматривается не как статистическое обобщение случайных событий, но как характеристика внутренних отношений между предложениями. В-четвёртых, проясняется специфика так называемых предложений логики, совокупность которых исчерпывается тавтологиями и противоречиями. В-пятых, устанавливается общая форма предложения как априорная конструкция, лежащая в основании всех возможных предложений. Наконец, все эти достижения позволяют охарактеризовать логику как науку, отличную от всех других наук. Приступим теперь к рассмотрению и интерпретации этих достижений.
3.3.2. Функции истинности и операции истинности
Соотношение возможностей истинности элементарных предложений и возможностей согласования и несогласования позволяют рассматривать предложение как выражение некоторой функции, областью определения которой могут, например, выступать столбцы таблицы 1, а областью значения столбцы таблиц 2 или 3. В этом отношении, скажем, таблица 4 представляет собой знак целостной функции, аргументами и значениями которой являются условия истинности элементарных предложений и сложного предложения соответственно. Это наблюдение Витгенштейн рассматривает как объяснение всех возможных предложений:
«5. Предложение есть функция истинности элементарных предложений. (Элементарное предложение – функция истинности самого себя.)
5.01. Элементарные предложения – аргументы истинности предложения».
Здесь сразу же просматривается аналогия со знаковым языком Фреге-Рассела, где функциональный принцип положен в основание объяснения логических констант. Витгенштейн вполне осознаёт эту аналогию. Выше уже говорилось, что таблица 4 может рассматриваться как объяснение предложения ‘pÉq’. Подобное соответствие устанавливается в ЛФТ и в отношении других предложений [5.101]. Так, например, ‘(ИИИЛ)(p, q)’ соответствует ‘pÚq’, ‘(ИЛЛЛ)(p, q)’ соответствует ‘p × q’, ‘(ЛИЛИ)(p, q)’ соответствует ‘~p’ и т.п.
Априорный принцип, заложенный Витгенштейном в конструкцию всех возможных знаков предложений, показывает, что логические константы не являются необходимыми для языка логики, особенно если отталкиваться от априорного способа конструирования предложений. Но даже если они и используются, сама возможность обойтись без них указывает на то, что они очевидно не должны пониматься в смысле Фреге–Рассела как знаки особых логических объектов. Однако поскольку метод анализа логических взаимосвязей, предложенный в Шрифте понятий и Principia Mathematica, удовлетворяет потребности конструирования знаковых систем, он должен найти своё оправдание. Для любого языка – это относится и к естественному языку, поскольку он использует соответствующие выражения, – необходимо найти основание для введения логических союзов, отталкиваясь от априорной конструкции. Раз знаковая система может использовать нечто подобное логическим константам, функционирование которых априорно, значит, сама эта возможность должна быть обнаружена уже в знаке предложения.
Для демонстрации этого начнём с того, что возможность упорядочивания в ряд, как в таблице 3, показывает, что структуры предложений находятся в отношениях, которые проявлены в самих знаках. Напомним, что отношения такого рода Витгенштейн называет внутренними. Наличие таких отношений указывает на то, что существует простой способ получения одной функции из другой. Возьмём, например, предложения ‘(ЛИЛИ)(p, q)’ и ‘(ИЛИЛ)(p, q)’ соответствующие 6-му и 11-му столбцам таблицы 3. Нетрудно заметить, что второй знак можно получить из первого простой заменой ‘Л’ на ‘И’ и ‘И’ на ‘Л’, а первый получить из второго обратной заменой. То же самое применимо и ко всем другим предложениям. Преобразования подобного рода Витгенштейн называет операциями: «Операция – это то, что должно произойти с предложением, чтобы образовать из него другое» [5.23]. Любой ряд, аналогичный представленному в таблице 3, можно рассматривать как результат последовательного применения таких операций, а потому, «внутреннее отношение, упорядочивающее ряд, эквивалентно операции, благодаря которой один член возникает из другого» [5.232]. Поскольку каждое предложение строится из элементарных предложений, постольку в конечном счёте предложение является результатом применения операций к элементарным предложениям. Соответственно, всякая функция истинности есть результат операций, применяемых к элементарным предложениям. Эти операции Витгенштейн называет операциями истинности. Операции истинности суть не что иное, как способ построения функций истинности, они показывают, какие преобразования должны быть проведены, чтобы из условий истинности элементарных предложений получить условия истинности сложного предложения. Именно последовательное применение операций к функциям образует формальный ряд, где каждая операция представляет собой переход от одного члена ряда к следующему.
Операции истинности характеризуются следующими свойствами:
1. При построении одной функции могут последовательно использоваться несколько операций истинности. В этом случае результат одной операции рассматривается как базис другой. Это связано с тем, что переход от одного члена ряда к другому возможен через посредство других членов. Таким образом, при построении функций операции можно применять и к таким предложениям, которые не являются элементарными, а представляют собой результат применения других операций[167]. Нетрудно, например, заметить, что знак, представленный таблицей 4 сохранял бы своё значение и в том случае, если бы p и q не были элементарными предложениями [5.31]. При построении функции могут использоваться как разные, так и одна и та же операция, повторно применяясь к своему собственному результату [5.251, 5.2521].
2. Одна и та же функция истинности может быть построена с помощью различных операций. Это связано с тем, что от одного члена ряда мы можем перейти к другому через посредство различных членов этого ряда. Функция при этом останется неизменной, изменится лишь способ её построения. Последнее указывает на возможность перекрёстного определения операций, где последовательность одних может заменяться последовательностью других [5.41]. Поэтому операции характеризуют не форму функции, а лишь различия в построении этой формы [5.24, 5.241].
3. На то, что операции истинности затрагивают лишь различия в построении форм, указывает и то, что одна и та же операция может использоваться при построении различных функций [5.242]. На это указывает то, что от одних членов ряда можно переходить к другим через посредство одного и того же члена этого ряда[168].
4. «Одна операция может аннулировать результат другой» [5.253]. Это связано с тем, что к произвольному члену формального ряда можно вернуться через посредство других членов этого ряда. В частности, можно указать операцию, повторное применение которой аннулирует результат своего предыдущего применения; в этом случае операция просто исчезает [5.254].
Свойства операций истинности показывают, что их необходимо строго отличать от функций истинности, свойства которых совершенно иные. Так, функция не может выступать своим собственным аргументом, тогда как операция может быть своим собственным основанием [5.251]; в отличие от операции функция не может исчезать и её значение не может быть аннулировано другой функцией[169]. Можно сказать, что функция и операция различаются как конструкция и метод построения конструкции.
Заметим, что метод построения конструкции был выведен исключительно из особенностей самой конструкции и не требовал применения дополнительных средств. Всё, что можно сказать об операциях, непосредственно видно из знаков предложений и заданного способа их образования. Это замечание особенно важно в связи с тем, что Витгенштейн рассматривает логические константы в смысле Фреге–Рассела как выражение операций истинности: «Отрицание, логическое сложение, логическое умножение и т.д. – суть операции» [5.2341]. Операции истинности как раз и есть то указанное выше априорное основание, которое требуется для введения логических союзов. Например, описанная выше операция, с помощью которой из знака ‘(ЛИЛИ)(p, q)’ получается знак ‘(ИЛИЛ)(p, q)’, соответствует знаку отрицания ‘~’, как он понимается в нотации Principia Mathematica. И действительно, легко показать, что любое выражение, использующее логические союзы, можно записать в таблицах истинности с точки зрения представленного выше понимания функций истинности и операций истинности. Возьмём, например, выражение ‘~(p × ~q)’. Таблица 6 показывает как последовательное применение операций, выраженных с помощью ‘~’ и ‘× ’, строит соответствующий знак предложения в записи Витгенштейна.
|
p |
Q |
~q |
p × ~q |
~(p × ~q) |
|
И |
И |
Л |
Л |
И |
|
Л |
И |
Л |
Л |
И |
|
И |
Л |
И |
И |
Л |
|
Л |
Л |
И |
Л |
И |
(таб.6)
В этой таблице операции, последовательно применяясь к двум первым столбцам, приводят к пятому столбцу через посредство третьего и четвёртого. Причём третий столбец есть результат преобразования второго, а четвёртый – первого и третьего. Применение каждой операции создаёт особую функцию, которая служит промежуточным этапом построения всей функции. Используя другой способ представления, ориентированный на результат всех операций, представленный в пятой колонке, выражение ‘~(p × ~q)’ можно записать как ‘(ИИЛИ)(p, q)’. Интересно, что знак, представленный таблицей 6, совпадает со знаком таблицы 4, хотя и строятся они различным способом. По сути дела, это знаки одной и той же функции, но построенной в первом и втором случае с помощью разных операций, «ибо все результаты операций истинности над функциями истинности, которые являются одной и той же функцией истинности элементарных предложений, являются тождественными» [5.41]. Таким образом, операции истинности не вносят ничего нового в способ символизации предложения, в способ его связи с действительностью; они не имеют собственного содержания. Всё, что затрагивают операции истинности, – это различия в способе построения знаков, причём эти различия уже предопределены априорной конструкцией предложения, они не требуют для своего объяснения дополнительных средств, но показаны самим знаком.
Таким образом, Витгенштейн даёт совершенно иное, чем Фреге и Рассел, объяснение логическим союзам. Это объяснение позволяет разрешить все те затруднения, которые были высказаны ещё в Заметках по логике, связанные с пониманием союзов как логических констант, обозначающих особые ‘логические объекты’. Такое понимание основано на смешении функций истинности и операций истинности. Только в этом случае можно говорить, что логические союзы нечто обозначают. Только в этом случае можно говорить, что они являются логическими константами, обозначающими истинностные функции, которые выступают логическими объектами. Но тогда необъяснимыми становятся взаимоопределимость союзов [5.42] и возможность их исчезновения [5.254]. Проблема решается тем, что «нет ‘логических констант’, ‘логических объектов’ (в смысле Фреге и Рассела)» [5.4].
Предложения, в которых встречаются логические союзы, не трактуют ни о каких объектах. Например, предложение ‘~p’ не говорит об объекте, соответствующем ‘~’, оно показывает, с помощью каких преобразований согласованы и не согласованы истинностные возможности ‘p’. Это отличает их от элементарных предложений типа ‘fa’. В отличие от функций, выраженных в последних, функции истинности не являются материальными. Последнее требует дополнительного объяснения. Возьмём, например, ‘~~p’ и ‘p × p’. Эти предложения тождественны ‘p’. Но если бы логические союзы обладали каким-то собственным содержанием, то приведённые предложения явно должны были бы различаться, однако они выражают одну и ту же функцию. Таким образом, получается, что все операции истинности, которые могут быть проведены с истинностными функциями, даны уже вместе с элементарным предложением, которое является их основанием [5.442; 5.47]. Очевидно, не то происходит с операциями, которые можно провести с материальными функциями[170]. Стало быть, операции с первыми априорны, а со вторыми – нет. Действительно, операции с материальными функциями требуют знакомства с содержанием последних. По виду ‘fx’ невозможно установить, какие операции можно провести с этой функцией. Необходимо задать предметную область, на которой она определена. A priori, с точки зрения Витгенштейна, могут быть даны только форма и её различия[171].
Поскольку все возможные истинностные функции предвидимы, а различия их форм заданы априорно, то это говорит о том, что существует единый способ их возникновения. На это косвенно указывает уже то, что, во-первых, все операции даны со знаком элементарного предложения и, во-вторых, все операции взаимоопределимы. Действительно, раз все логические операции даны ‘сразу же’ (aufeinmal) [5.47], любая функция может быть сконструирована с помощью различного набора операций[5.42], а одна и та же операция может использоваться при конструировании различных функций [5.451], это показывает, что все операции имеют нечто общее. И это общее можно результировать в единственной операции: «Каждая функция истинности есть результат последовательного применения операции (– – – – – И)(x,……) к элементарным предложениям. Эта операция отрицает все предложения в правых скобках, и я называю её отрицанием этих предложений» [5.5]. Другими словами, все операции, с помощью которых строятся предложения, можно заменить последовательным применением указанной операции[172].
Объясним эту операцию на примере двух элементарных предложений p и q. В нотации Рассела эта операция будет соответствовать логическому умножению отрицаний данных предложений, а именно ‘~p × ~q’. В табличной записи Витгенштейна знак будет выглядеть следующим образом:
|
p |
q |
~p |
~q |
~p × ~q |
|
И |
И |
Л |
Л |
Л |
|
Л |
И |
И |
Л |
Л |
|
И |
Л |
Л |
И |
Л |
|
Л |
Л |
И |
И |
И |
(таб.7)
Или иначе, ‘(– – –И)(p, q)’[173]. Данную операцию можно применять повторно, взяв из таблицы 7 в качестве её базиса любой набор из двух столбцов или дважды один и тот же столбец. Допустим, в качестве базиса операции будет дважды выступать столбец 5. Отрицая соответствующие функции в нотации Рассела получим выражение ‘~(~p × ~q) × ~(~p × ~q)’, что в табличной записи примет вид:
|
~p × ~q |
~p × ~q |
~(~p × ~q) |
~(~p × ~q) |
~(~p × ~q) × ~(~p × ~q) |
|
Л |
Л |
И |
И |
И |
|
Л |
Л |
И |
И |
И |
|
Л |
Л |
И |
И |
И |
|
И |
И |
Л |
Л |
Л |
(таб.8)
Или иначе ‘(ИИИ–)(p, q)’. Далее, в качестве базиса операции можно рассматривать любую комбинацию из столбцов таблицы 7 и таблицы 8 и т.д. Или возьмём такую последовательность: Применим данную операцию к столбцам 3 и 2 из таблицы 7. В нотации Рассела получится ‘~~p × ~q’. Затем результат возьмём дважды в качестве базиса этой операции. В той же нотации получим знак ‘~(~~p × ~q) × ~(~~p × ~q)’. Используя алгоритм, построения таблиц, нетрудно установить, что этому знаку будет соответствовать ‘(ИИ–И)(p, q)’.
Подведём итог. Последний пример, а также таблицы 7 и 8 являются ни чем иным, как членами формального ряда, представленного в таблице 3 (столбцы 3, 2 и 15 соответственно). При последовательном применении указанной операции можно построить весь формальный ряд таблицы 3[174], а в общем случае любой формальный ряд, состоящий из n элементарных предложений.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() Представим весь такой ряд для двух элементарных
предложений (т.е. для всей таблицы 3) следующим образом. Пусть ‘ x ’ является
переменной, а её значениями являются различные комбинации предложений, если их
последовательность безразлична, стоящие в правой скобке выражения (– – – – –
И)(x,……). Например, если x имеет три значения: R, W, R, то ‘ x’ равно (R, W, R), где R, W и R, в свою
очередь, могут быть результатом применения этой же операции. Обозначим теперь
применение этой операции к значениям переменной ‘ x ’ как «N(
x
)» [5.501; 5.502]. Тогда, «если x имеет только одно значение, то N( x ) = ~p (не p) и если x имеет два значения, то N( x ) = ~p × ~q (ни p, ни q)» [5.51]. Любое предложение,
полученное применением операции к исходным предложениям множества ‘ x ’,
автоматически включается в это множество и рассматривается как один из базисов
данной операции (прежде всего это относится к предложениям ‘~p’ и ‘~p × ~q’).
Остаётся последовательно применять эту операцию к исходным предложениям и
предложениям, полученным из исходных. Пусть теперь столбцы 6 и 4 таблицы 3 суть
p и q соответственно. Из этих столбцов легко построить весь ряд:
Столбцам 11 и 13 соответствует N(6) и N(4); столбцу 1 –
N((N(6),N(4)),N(N(N(6),N(4))))); столбцу 2 – N(N(6,4)); столбцу 3 –
N(N(N(6,4),4)); столбцу 5 – N(N(N(4),6)); столбцу 7 –
N(N(N(6,4),N(N(6),N(4)))); столбцу 8 – N(N(6),N(4)); столбцу 9 –
N(N(N(6),N(4))); столбцу 10 – N(N(6,4),N(N(6),N(4))); столбцу 12 – N(N(4),6);
столбцу 14 – N(N(6,4),4); столбцу 15 – N(6,4); столбцу 16 –
N((N(6),N(4)),N(N(N(6),N(4))))[175].
Поскольку перейти от любого члена ряда к другому можно через различные члены
этого ряда, постольку представленный здесь способ применения операции не
единственный. Таких переходов – бесконечное количество. Но это лишь указывает
на несущественность конкретного способа построения данного ряда; главное, что
он может быть построен a priori.
Представим весь такой ряд для двух элементарных
предложений (т.е. для всей таблицы 3) следующим образом. Пусть ‘ x ’ является
переменной, а её значениями являются различные комбинации предложений, если их
последовательность безразлична, стоящие в правой скобке выражения (– – – – –
И)(x,……). Например, если x имеет три значения: R, W, R, то ‘ x’ равно (R, W, R), где R, W и R, в свою
очередь, могут быть результатом применения этой же операции. Обозначим теперь
применение этой операции к значениям переменной ‘ x ’ как «N(
x
)» [5.501; 5.502]. Тогда, «если x имеет только одно значение, то N( x ) = ~p (не p) и если x имеет два значения, то N( x ) = ~p × ~q (ни p, ни q)» [5.51]. Любое предложение,
полученное применением операции к исходным предложениям множества ‘ x ’,
автоматически включается в это множество и рассматривается как один из базисов
данной операции (прежде всего это относится к предложениям ‘~p’ и ‘~p × ~q’).
Остаётся последовательно применять эту операцию к исходным предложениям и
предложениям, полученным из исходных. Пусть теперь столбцы 6 и 4 таблицы 3 суть
p и q соответственно. Из этих столбцов легко построить весь ряд:
Столбцам 11 и 13 соответствует N(6) и N(4); столбцу 1 –
N((N(6),N(4)),N(N(N(6),N(4))))); столбцу 2 – N(N(6,4)); столбцу 3 –
N(N(N(6,4),4)); столбцу 5 – N(N(N(4),6)); столбцу 7 –
N(N(N(6,4),N(N(6),N(4)))); столбцу 8 – N(N(6),N(4)); столбцу 9 –
N(N(N(6),N(4))); столбцу 10 – N(N(6,4),N(N(6),N(4))); столбцу 12 – N(N(4),6);
столбцу 14 – N(N(6,4),4); столбцу 15 – N(6,4); столбцу 16 –
N((N(6),N(4)),N(N(N(6),N(4))))[175].
Поскольку перейти от любого члена ряда к другому можно через различные члены
этого ряда, постольку представленный здесь способ применения операции не
единственный. Таких переходов – бесконечное количество. Но это лишь указывает
на несущественность конкретного способа построения данного ряда; главное, что
он может быть построен a priori.
Самое интересное здесь то, что приведённые выше примеры результатов применения единой операции совпадают с логическими союзами. Последний пример совпадет с таблицами 4 и 6, а стало быть, с тем, как Фреге объясняет ‘pÉq’. Таблица 8 соответствует расселовскому ‘pÚq’ и т.п. Более того, таких совпадений может быть бесконечное количество, в зависимости от способа построения того или иного члена ряда. В связи с этим наконец становится ясной роль таких выражений, как ‘É’, ‘Ú’, ‘~’. Логические союзы есть лишь сокращение – своеобразная экономия (энтимемичность)[176] – выражения последовательного применения одной операции. Они являются результатом языковой конвенции. Именно поэтому возможно построить полную логическую систему, применяя разные логические союзы. В этом случае просто используются различные сокращения: «Количество необходимых основных операций зависит только от нашего способа записи» [5.474].
3.3.3. Логическое следование
Интерпретация логических союзов, предлагаемая Витгенштейном, показывает, что предложения находятся во внутренних отношениях, т.е. в таких отношениях, которые можно выявить наблюдением за самими знаками. Это имеет определяющее значение для надлежащей интерпретации тех взаимосвязей, которые всегда считались для логики основными и, в некоторой степени, инициировали её как науку. Прежде всего, здесь подразумевается отношение логического следования. При всех различиях в объяснениях этого отношения можно зафиксировать нечто общее. Используя слово ‘следовательно’, всегда имеют в виду наличие определённой связи различных предложений, где одни выводятся из других. Относительно характера такой связи возникает вопрос, следует ли одно предложение из других с необходимостью, определённой степенью вероятности, или вывод отсутствует вовсе? Возможность подстановки слова ‘следовательно’ фиксирует характер выражения этой связи. Проиллюстрируем последнее примером.
Возьмём два умозаключения, в которых устанавливается следующая связь предложений: 1. «Идёт дождь со снегом. Следовательно, идёт дождь или идёт снег»; 2. «Идёт дождь со снегом. Следовательно, нет ни дождя, ни снега». Здесь возникает вопрос о том, насколько в первом и втором случае обоснована подстановка слова ‘следовательно’. Почему в первом умозаключении допускается переход от первого предложения ко второму, а во втором – нет? Что лежит в основании установления подобной связи? Чем регулируется возможность получения второго предложения из первого? Логики всегда отвечали на эти вопросы единообразно: Возможность подстановки слова ‘следовательно’ связана с особенностями формы. Обратимся, например, к Расселу. Форма предложения «Идёт дождь со снегом» представима следующим образом: ‘p × q’, а предложений «Идёт дождь или идёт снег» и «Нет ни дождя, ни снега» – ‘pÚq’ и ‘~p × ~q’ соответственно. Достоверность первого умозаключения связана с достоверностью перехода от ‘p × q’ к ‘pÚq’, а недостоверность второго умозаключения связана с невозможностью перейти от ‘p × q’ к ‘~p × ~q’. Если задаться вопросом «почему?», то Рассел предлагает следующий ответ: Потому что ‘(p × q) É (pÚq)’ является законом логики, а ‘(p × q) É (~p × ~q)’ – нет. Законы логики как раз и оправдывают вывод. Таким образом, вопрос о наличии логического следования относительно некоторого набора предложений сводится к вопросу о том, является ли логическим законом предложение, которое из них построено. Последний же решается в рамках логистической системы типа Principia Mathematica, где ряд логических законов задаётся в качестве аксиом, а все остальные законы выводятся из них.
Представим это в общем виде. Обозначим логическое следование знаком ‘|¾’. Пусть {Y} представляет собой произвольную совокупность предложений. На этой совокупности можно определить отношение ‘|¾’, которое говорит о возможности перехода от любого подмножества {Y} к другому подмножеству этого же множества. Пусть ‘P{Y}’ – совокупность всех подмножеств множества {Y}, а {D} множество тех предложений, образованных из элементов ‘P{Y}’ (например, способом, приведённым в указанном выше примере), которые являются логическими законами. Тогда любая знаковая система представляет собой структуру <P{Y}; {D}>, где {D} задаёт отношение ‘|¾’ на {Y}. Итак, множество {D} – это совокупность законов логического вывода, но о чём могут говорить эти законы? Поскольку от содержания предложений мы отвлекаемся, они могут говорить только о свойствах ‘×’, ‘Ú’, ‘~’ и т.д. Эти законы говорят о том, как предложения, построенные с помощью одних логических союзов, связаны с предложениями, которые построены с помощью других логических союзов. Свойства логических союзов могут быть систематизированы, если выявить принцип, который позволял бы из базовых свойств логических союзов выводить все другие свойства. Это означает, что множество {D} подлежит иерархии. Есть основные законы, из которых выводимы все производные. Именно таким образом строят свои логистические системы Фреге и Рассел.
Что лежит в основании такого подхода? Логическое следование трактуется как внешнее отношение, ориентированное на свойства специфических логических объектов. Действительно, по внешнему виду ‘×’, ‘Ú’, ‘~’ нельзя судить о характере тех отношений, в которых они находятся. Представление о том, что им соответствуют различные логические объекты, требует дополнительных средств, позволяющих связывать логические союзы друг с другом.
Нетрудно, однако, заметить, что дело здесь затемнено применяемой системой записи. Ведь если для выражения логических взаимосвязей использовать, например, штрих Шеффера, связь между предложениями становится очевидной уже из самого знака [5.1311]. И хотя такой способ записи не проясняет окончательно существа дела, тем не менее он наглядно демонстрирует, что предложения находятся во внутренних отношениях, которые могут быть установлены наблюдением за самими знаками.
Именно по этому пути идёт Витгенштейн. Отношение логического следования не характеризует свойства особых логических констант, поскольку таковых нет. Раз логические союзы есть способ выражения внутренних отношений предложений, то и логическое следование тоже сводится к таковым. Вопрос о том, следует ли одно предложение из другого, должен решаться по виду самих этих предложений. Как говорится в ЛФТ, «если истинность одного предложения следует из истинности других, то это выражается посредством отношений, в которых находятся между собой формы этих предложений; и нам не нужно их в эти отношения, связывая предварительно друг с другом в одно предложение, так как эти связи являются внутренними и существуют постольку, и лишь постольку, поскольку существуют эти предложения» [5.131]. Другими словами, для установления отношения |¾ в рамках множества {Y} не требуется никакого дополнительного множества {D}. Поскольку если предложения записаны надлежащим образом, то внешний вид знаков и так показывает, находятся эти предложения в соответствующем отношении или же нет. Об этом позволяют судить полюса предложений присутствующие в самом знаке. Возьмём, например, правило вывода modus ponens, которое говорит, что из предложений ‘p É q’ и ‘p’ логически следует предложение ‘q’, и представим знаки предложений в табличной записи:
|
p |
q |
É |
|
p |
|
q |
|
И |
И |
И |
|
И |
|
И |
|
Л |
И |
И |
|
Л |
|
И |
|
И |
Л |
Л |
|
И |
|
Л |
|
Л |
Л |
И |
|
Л |
|
Л |
(таб.9)
Из этой записи видно, что в случае истинности как ‘p É q’, так и ‘p’ (первая строчка) ‘q’ также является истинным. Отсюда можно следующим образом ввести понятие логического следования. Если какое-то предложение обязательно истинно в тех случаях, когда истинны какие-то другие предложения, то это первое логически следует из вторых [5.11; 5.12; 5.121]. Нетрудно заметить, что подобным образом вопрос о логическом следовании решается для любых предложений. Вернёмся, скажем, к примеру с предложениями ‘p × q’, ‘pÚq’ и ‘~p × ~q’. В записи Витгенштейна они примут вид ‘(И– – –)(p, q)’, ‘(ИИИ –)(p, q)’ и ‘(– – –И)(p, q)’ соответственно. Запись показывает, что в случае истинности первого предложения второе истинно, а третье – нет. Значит, второе предложение логически следует из первого, а третье – нет. Поскольку нотация Рассела легко переводима в табличную запись, при таком подходе не имеет значения тот факт, из каких логических союзов построены предложения.
Самое интересное в этом то, что при характеристике логического следования не приходится апеллировать ни к каким логическим законам. При установлении того, что из ‘p É q’ и ‘p’ следует ‘q’, нам не потребовалось доказывать, что ‘((p É q) × p)) É q’ – закон логики. Возможность вывода была установлена из самих знаков. Отсюда следует, что «‘законы вывода’, которые должны – как у Фреге и Рассела – оправдывать выводы, не имеют смысла и были бы излишни» [5.132]. Они не имеют смысла как раз потому, что пытаются сказать то, что и так видно, когда смотришь на знаки предложений.
Специфика внутренних отношений позволяет, ориентируясь только на то, что показано самими знаками, установить ряд свойств логического следования, которые в нотации Рассела–Фреге требовали дополнительных доказательств. К таковым относятся: 1. Ни одно элементарное предложение не следует ни из какого другого элементарного предложения [5.134], поскольку, как показывает таблица 1, их условия истинности хотя бы один раз противоположны. 2. Если два предложения следуют друг из друга, то они являются одним и тем же предложением [5.141], поскольку в этом случае, как показывают таблицы 4 и 6, их истинностные возможности совпадают. 3. Если для двух предложений нельзя указать третье, которое выводилось бы как из первого, так и из второго, значит, первое и второе предложения противоречат друг другу [5.1241]. Это видно из того, что в этом случае условия истинности таких предложений всегда будут противоположны. 4. Тавтология следует из любого предложения [5.142], а любое предложение следует из противоречия, поскольку, как показывает таблица 5, у тавтологии всегда найдётся вариант, при котором её истинность будет совпадать с истинностью произвольного предложения, а противоречие не требует от предложения, чтобы оно в каком-то определённом случае было истинным.
Из знаков можно установить не только наличие вывода одного предложения из другого, но и его отсутствие. Например, из тавтологии не следует противоречие. Однако наличие и отсутствие логического следования являются лишь крайними случаями из той гаммы отношений, которая предоставлена нам формальным рядом. Из таблицы 3 можно легко подобрать комбинации, не удовлетворяющие ни тому, ни другому. Что же характеризуют эти комбинации? Поскольку каждое предложение показывает, какое место оно оставляет факту [4.463], постольку можно задаться вопросом, насколько это место совместимо с местом, которое факту оставляет другое предложение. В случае логического следования одно предложение оставляет полную свободу другому предложению, в случае отсутствия – одно предложение полностью ограничивает другое. Но возможно и частичное ограничение. В этом отношении одно предложение выступает мерой вероятности той свободы, которую факту оставляет другое предложение, т.е. одно предложение может ограничивать условия истинности другого предложения. Здесь возникает ещё одно понятие – вероятность.
3.3.4. Вероятность
Витгенштейн развивает теорию вероятностей, основываясь на одном наблюдении: «Истинность тавтологии достоверна; предложений – возможна, противоречие – невозможно. Достоверна, возможна, невозможна – здесь мы имеем указание той градации, которую употребляем в теории вероятностей» [4.464]. Учитывая, что функции истинности легко упорядочиваются в ряд, где тавтология и противоречие выступают крайними членами этого ряда, легко предположить, что вероятность есть выражение отношения между членами формального ряда условий истинности [5.1]. И раз градация возникает уже на уровне знаков, не требуя специального обращения к действительности, то вероятность должна объясняться с точки зрения внутренних отношений между предложениями. Оказывается, что вероятность также относится к уровню показанного знаковой системой.
Здесь определяющее значение имеет то, что «само по себе предложение ни вероятно, ни не вероятно. Событие наступает или не наступает; среднего не дано» [5.153]. Вероятность задаётся с точки зрения отношений между знаками, она имеет не абсолютный, а относительный характер. Мера вероятности вводится следующим образом: «Если Иr – количество оснований истинности предложения ‘r’, а Иrs – количество тех оснований истинности предложения ‘s’, которые одновременно являются основаниями истинности ‘r’, то мы назовём отношение Иrs:Иr мерой вероятности, которую предложение ‘r’ даёт предложению ‘s’» [5.15]. Это легко проиллюстрировать на примере отношений в рамках формального ряда, представленного таблицей 6. Возьмём первый столбец, соответствующий тавтологии. Саму себя тавтология наделяет степенью вероятности, равной 1; предложение, соответствующее столбцу 2, – степенью вероятности, равной 3/4 …; предложение, соответствующее столбцу 15, – степенью вероятности, равной 1/4 ; наконец, противоречию (16 столбец) тавтология даёт степень вероятности, равную 0[177]. Аналогичную процедуру можно проделать с каждым столбцом таблицы 6 относительно любого другого столбца. Так предложение ‘(ИИИ –)(p, q)’ (в нотации Рассела ‘pÚq’) даёт предложению ‘(И– – –)(p, q)’ (в нотации Рассела ‘p × q’) степень вероятности 1/3, а предложению ‘(ИИ–И)(p, q)’ (в нотации Рассела ‘p É q’) – степень вероятности 2/3. Здесь уже присутствует ряд от 0 до 1, необходимый для теории вероятности, члены которого могут множиться пропорционально увеличению числа предложений.
Возможность построения ряда степеней вероятности, основанная исключительно на внутренних отношениях предложений, показывает, что «нет никакого особого предмета, свойственного вероятностным предложениям» [5.1511]. Введение вероятности ничего не меняет в структуре мира.
Отталкиваясь от свойств ряда, можно легко установить:
1. Если из одного предложения следует другое (например, столбец 8 и 2 таблицы 6 соответственно), то первое даёт второму степень вероятности, равную 1. Поэтому, «достоверность логического вывода есть предельный случай вероятности» [5.152];
2. Существуют предложения, которые не дают друг другу никакой степени вероятности (например, столбцы 8 и 9 таблицы 6), поскольку не имеют общих аргументов истинности [5.152];
3. Как видно из таблицы 1, «два элементарных предложения дают друг другу вероятность ½» [5.152].
Свойства вероятности показывают, что она может рассматриваться как обобщение понятия логического следования [5.156]. Кроме того, вероятность, как и следование, подтверждает теорию Витгенштейна о независимости элементарных предложений друг от друга.
3.3.5. Редукция
![]() Вернёмся вновь к афоризмам 5 и 5.01: «Предложение
есть функция истинности элементарных предложений. (Элементарное предложение –
функция истинности самого себя.) Элементарные предложения – аргументы
истинности предложения». Самое интересное здесь то, что, когда Витгенштейн
говорит о предложениях как функциях истинности элементарного предложения, он
имеет в виду не только те из них, которые содержат логические союзы. Термин ‘предложение’ в
данном случае не специфицирован. А это означает, что какое бы предложение мы не
взяли, оно производно от элементарного предложения. Любое знаковое образование,
обладающее способностью к истинности, которое предполагают рассматривать как
особый элемент, отличающийся от элементарных предложений новыми, имеющими
собственное значение конституентами, является таковым лишь по видимости.
Операция N( x ) имеет универсальный характер [5.5], и если
используются выражения, претендующие на статус предложения и при этом отличающиеся
от элементарных предложений, это означает, что они есть либо результат
применения этой операции, либо вообще не являются предложениями.
Вернёмся вновь к афоризмам 5 и 5.01: «Предложение
есть функция истинности элементарных предложений. (Элементарное предложение –
функция истинности самого себя.) Элементарные предложения – аргументы
истинности предложения». Самое интересное здесь то, что, когда Витгенштейн
говорит о предложениях как функциях истинности элементарного предложения, он
имеет в виду не только те из них, которые содержат логические союзы. Термин ‘предложение’ в
данном случае не специфицирован. А это означает, что какое бы предложение мы не
взяли, оно производно от элементарного предложения. Любое знаковое образование,
обладающее способностью к истинности, которое предполагают рассматривать как
особый элемент, отличающийся от элементарных предложений новыми, имеющими
собственное значение конституентами, является таковым лишь по видимости.
Операция N( x ) имеет универсальный характер [5.5], и если
используются выражения, претендующие на статус предложения и при этом отличающиеся
от элементарных предложений, это означает, что они есть либо результат
применения этой операции, либо вообще не являются предложениями.
Этот ход мысли предлагает совершенно отличное от Рассела и Фреге развитие темы. Отличие здесь действительно радикальное, поскольку если в анализе логических союзов ещё можно проследить аналогию, то в объяснении других выражений, претендующих на статус логических констант, позиция Витгенштейна разнится кардинально. Функции истинности имеют формальный характер, и в этом отношении применение операций истинности не добавляет никакого материального содержания предложению помимо того, что содержится в элементарных предложениях: «Смысл функции истинности р есть функция смысла р» [5.2341]. Поэтому объяснять логические выражения с точки зрения того отличия в содержании, которое они вносят в предложение, было бы неверно.
Помимо логических союзов, к логическим константам Фреге и Рассел относили выражения общности (‘все’ и ‘некоторые’) и тождества имён. Эти выражения отличали логику предикатов от логики высказываний, которая ограничивалась анализом логических союзов. Считалось, что логика предикатов образует специфическую теорию, поскольку ориентирована на анализ иных свойств предложения, обусловленных особым содержанием новых логических констант. Здесь вводились специфические логические законы, которые добавлялись к законам, связанным с союзами. Так, логические предложения типа ‘(х)fx É fa’ объяснялись с точки зрения на общность как второпорядковую функцию (Фреге) или модальную характеристику пропозициональной функции (Рассел). Тождество рассматривалось как совпадение различных обозначений одного и того же предмета, а логическая истинность некоторых предложений, например ‘a=b × b=c. É a = c’, – как следствие свойств этой константы.
Кроме того, помимо логических констант, в конструкции предложения могут быть задействованы и другие выражения. Например, в ‘А верит, что р’ кажется, что ‘p’ входит в предложение иным способом, чем в качестве основания операций истинности. А потому можно предположить, что ‘А верит, что р’ не является функцией истинности ‘p’. Это предположение даже можно обосновать, ссылаясь на то, что ‘p’ имеет косвенное вхождение в данное предложение, а потому его значение отличается от обычного (Фреге), или сопоставить предложениям типа ‘А верит, что р’ особую разновидность фактов[178].
Витгенштейн же в развитие афоризмов 5 и 5.5 стремится свести эти случаи либо к применению операций истинности к элементарным предложениям (общность), либо к демонстрации того, что выражения являются псевдопредложениями (тождество), либо к тому, что при надлежащем анализе соответствующие конституенты предложения просто исчезают (выражения типа ‘А верит, что…’). Таким образом, оказывается, что введение элементарных предложений действительно фундаментально, причём не только для понимания предложений с логическими союзами, но и для понимания всех других видов предложений.
Практикуемый в ЛФТ подход можно обозначить как редукцию. Слово ‘редукция’ подчёркивает здесь, что этот подход является не просто новой, отличной от Фреге и Рассела, логической теорией, хотя его и можно трактовать таким способом. Скорее, редукция должна пониматься как метод, позволяющий подчеркнуть своеобразие логики. Смысл редукции в том, что она развивает основной методологический принцип Витгенштейна, ориентированный на то, что у логики нет собственного содержания, что всё то, что рассматривалось как особые логические предметы, суть фикции. Нет логических констант, логика относится к демонстрации свойств знаковой системы и в этом отношении не имеет собственного содержания[179]. Рассмотрим теперь, как развивается афоризм 5 относительно общности, тождества и выражений, типа ‘А верит, что…’.
3.3.6. Общность
На возможность сведения общности к элементарным предложениям указывает то, что выражение общности ведёт себя подобно логическим союзам. Общность присутствует уже в элементарном предложении, так как «‘f(a)’ говорит то же самое, что и ‘($x).fx.x=a’» [5.47], а последнее выражение в нотации Рассела эквивалентно выражению ‘~(x).~fx.x=a’. Это говорит о том, что «если даны предметы, то тем самым даны уже все предметы. Если даны элементарные предложения, то тем самым даны все элементарные предложения» [5.524]. Таким образом, общность связана с выражением формальной, а не материальной функции. Последнее сразу же указывает на то, что выражения общности нельзя рассматривать как логические константы, как это было у Фреге, который считал их знаками особых второпорядковых функций, аргументами которых являются функции первого порядка. Неверно передавать смысл этих выражений, апеллируя к необходимости, возможности и невозможности, как это делал Рассел[180], поскольку «достоверность, возможность или невозможность положения вещей выражаются не предложением, но тем, что выражение есть тавтология, осмысленное предложение или противоречие» [5.525], что связано со свойствами формального ряда условий истинности и никакого отношения к введению общности не имеет.
Однако, несмотря на очевидное сходство символики общности с логическими союзами, Витгенштейн отделяет её от функций истинности, что отличает его точку зрения от расселовской, которая предполагала возможность введения ‘($x).fx’ и ‘(x).fx’ в связи с логической суммой и логическим произведением [5.521]. Это связано, видимо, с тем, что замена ‘($x).fx’ на n-членную логическую сумму, типа ‘pÚqÚrÚs…’, во-первых, скрывает связь общности с расчленимостью элементарного предложения и, во-вторых, требует специального указания на то, что при построении выражения такого типа использованы все элементарные предложения, а это вновь возвращает к исходному состоянию[181].
В ЛФТ обозначение общности вводится следующим образом: «Своеобразие ‘символики общности’, во-первых, в том, что она ссылается на логический первообраз, и, во-вторых, что она подчёркивает константы» [5.522]. Для понимания этого необходимо вернуться к тому, как Витгенштейн понимает прообраз и константу.
Прообразами, символизирующими логическую форму, являются выражения, указывающие на класс предложений [3.315]. Это значит, что в отличие от имён, обозначающих предметы, выражения, типа ‘fx’ и ‘xRy’, которые, используя модифицированную терминологию Фреге, можно называть знаками материальных функций[182], не обозначают никаких особых предметов, их значением является класс предложений. ‘fx’ и ‘xRy’ являются переменными предложения (Satzvariable) [3.317], значениями которых могут выступать предложения ‘fa’, ‘fb’, ‘fc’… или ‘aRb’, ‘bRc’, ‘aRc’… соответственно. При такой трактовке ни о каком истолковании общности в смысле Фреге и речи быть не может. В предложениях типа ‘($x).fx’ и ‘(x).fx’, ‘fx’ указывает на класс предложений, имеющих одинаковую форму или, что то же самое, один прообраз, но не на материальную функцию, принимающую различные значения.
Символика общности подчёркивает константы соответствующего класса предложений, а именно: логическую форму и имена. Например, ‘(x).fx’ подчёркивает то, что fx является формой предложений ‘fa’, ‘fb’, ‘fc’…, а ‘a’, ‘b’, ‘c’… являются именами. Подчёркивая имена, «символ общности выступает как аргумент» [5.523]. «Сходство обозначения общности с аргументом обнаруживается, когда мы вместо fа пишем (ах)fх» (Д, С.113(10)).
![]() Поскольку общность связана с выделением множества
предложений, постольку с предложениями, включающими её выражение, следует
обращаться как со всеми другими. Как только соответствующий класс выделен, к
его элементам можно применять операцию истинности точно так же, как описано
выше. А именно: «если значения x являются всеми значениями функции fx для всех
значений x, то N( x ) = ~($x).fx»
[5.52]. Если мы начинаем с fx, то N( x ) включает логическое
произведение ‘~fa × ~fb × ~fc…’ плюс
все те результаты применения операции, которые могут быть получены указанным
выше способом. Если же берётся ~fx, то
N( x ) начинается с логического произведения ‘fa × fb
× fc…’, что эквивалентно ‘(x).fx’.
Таким образом, Витгенштейн сводит выражения общности к логическому произведению
и отрицанию элементарных предложений[183].
Поскольку общность связана с выделением множества
предложений, постольку с предложениями, включающими её выражение, следует
обращаться как со всеми другими. Как только соответствующий класс выделен, к
его элементам можно применять операцию истинности точно так же, как описано
выше. А именно: «если значения x являются всеми значениями функции fx для всех
значений x, то N( x ) = ~($x).fx»
[5.52]. Если мы начинаем с fx, то N( x ) включает логическое
произведение ‘~fa × ~fb × ~fc…’ плюс
все те результаты применения операции, которые могут быть получены указанным
выше способом. Если же берётся ~fx, то
N( x ) начинается с логического произведения ‘fa × fb
× fc…’, что эквивалентно ‘(x).fx’.
Таким образом, Витгенштейн сводит выражения общности к логическому произведению
и отрицанию элементарных предложений[183].
![]()
![]() Такое рассмотрение показывает, что на обобщённые
предложения можно легко распространить всё то, что выше говорилось об операциях
и функциях истинности, логическом следовании и вероятности. С точки зрения
Витгенштейна, логика обобщённых предложений не является особой теорией,
требующей иных методов анализа и идей, чем логика элементарных предложений.
Отличие здесь только в одном. Логика элементарных предложений рассматривает
каждое предложение в отдельности, связывая их с помощью логических союзов,
логика обобщённых предложений рассматривает совокупности предложений, имеющих
общие константы. И то, и другое описывается с помощью функций и операций истинности,
что достигается надлежаще установленным символизмом.
Такое рассмотрение показывает, что на обобщённые
предложения можно легко распространить всё то, что выше говорилось об операциях
и функциях истинности, логическом следовании и вероятности. С точки зрения
Витгенштейна, логика обобщённых предложений не является особой теорией,
требующей иных методов анализа и идей, чем логика элементарных предложений.
Отличие здесь только в одном. Логика элементарных предложений рассматривает
каждое предложение в отдельности, связывая их с помощью логических союзов,
логика обобщённых предложений рассматривает совокупности предложений, имеющих
общие константы. И то, и другое описывается с помощью функций и операций истинности,
что достигается надлежаще установленным символизмом.
В связи с рассмотрением общности особый интерес представляют предложения, которые Витгенштейн называет совершенно общими. В этих предложениях общность относится не только к именам, но и к функциональной части, например ‘($x,Ф).Фx’. Подобные предложения Рассел считал именами форм. Однако с точки зрения витгенштейновского понимания прообраза и на них можно распространить всё то, что говорилось о не вполне обобщённых предложениях. Но есть и отличие. К существу подобных предложений относится то, что «все совершенно общие предложения могут быть образованы a priori» (Д, С.28(8)). Действительно, для того, чтобы образовать такое выражение, не обязательно уточнять, имеется ли в действительности то, что они обозначают. Если элементарные предложения предполагают опыт, поскольку именно он решает, какие элементарные предложения имеются [5.557], устанавливая значение имён и комплексов, то оперировать совершенно общими предложениями можно не выходя за рамки синтаксиса. Поэтому может возникнуть впечатление, что совершенно общие предложения полностью утрачивают связь с действительностью. Основанием этого может служить возможность интерпретации символики общности с точки зрения логической суммы и отрицания, которые сами по себе никакой адеквации в действительности не находят. Однако это не так[184]. На связь символики общности с действительностью указывает то, что совершенно обобщённое предложение является составным, т.е. оно имеет нечто общее с другими символами, и при её введении необходимо расчленять предложение на различные категории знаков. Так, «в ‘($x,Ф).Фx’ мы должны упоминать ‘Ф’ и ‘x’ раздельно. Оба независимо стоят в отношениях обозначения к миру, как и в необобщённом предложении» [5.5261]. Значит, совершенно обобщённые предложения находятся в изобразительном отношении к миру. Эта идея в совокупности с возможностью сведения обобщённых предложений к элементарным находит своё развитие в том, что «можно полностью описать мир при помощи вполне обобщённых предложений, т.е. не соотнося заранее имя с определённым предметом. Чтобы затем перейти к обычному способу выражения, нужно просто после выражения ‘имеется один и только один x, который…’ добавлять: ‘и этот x есть а’» [5.526] [185]. «Таким образом, можно набросать образ мира, не говоря о том, что же именно что изображает» (Д, С.30(5)). Это имеет важное значение для понимания логических конструкций. При формировании знаковой системы не обязательно обращаться к именам конкретных предметов, образ мира может быть сконструирован совершенно a priori. В описании, использующем совершенно общие предложения, уже предзадана структура того, что описывается. Использование конкретных имён касается применения логических конструкций, показывающего в частном случае, какой образ, истинный или ложный, мы набросали. Но логику затрагивает лишь возможность предложений быть истинными и ложными. В этом отношении она вполне независима от конкретного содержания мира, но даёт лишь схему. Однако постольку, поскольку нас интересует не только возможность, но и действительность, без имён всё-таки обойтись нельзя. В Дневниках эта точка зрения выражена следующим образом: «Описанием мира посредством имён нельзя достичь чего-либо большего, чем общим описанием мира! Можно ли тогда обойтись без имён? Пожалуй, всё-таки нет. Имена необходимы для утверждения, что эта вещь обладает тем-то свойством и т.д. Они связывают форму предложения с вполне определёнными предметами. И если общее описание мира подобно его шаблону, то имена прибивают шаблон к миру так, что последний полностью покрыт им» (Д, С.72(8-12)). Шаблон предполагает применение, поскольку без такового не является шаблоном. Но именно в том смысле, в котором шаблон ограничивает измеряемый предмет, вполне общие предложения ограничивают пространство элементарных предложений [5.5262]. Элементарные предложения не могут дать такую картину, которая противоречила бы описанию, использующему вполне общие предложения. И если мы говорим, что из ‘(x).fx’ логически следует ‘fа’, то при истинности первого второе лишено возможности быть ложным. И, несмотря на то, что ‘fа’ само по себе не лишает такой возможности любое элементарное предложение, имеющее ту же самую форму (например, ‘fb’, ‘fc’ и т.д.), они всё-таки лишены её в силу истинности ‘(x).fx’ [5.5262].
3.3.7. Тождество
Перед тем как перейти к трактовке тождества у Витгенштейна, обратимся к тому, где в рамках формальной системы в нём может возникнуть необходимость. Если говорить о Фреге, то, как указывалось выше, он трактовал эту константу в связи с вводимым им различием смысла и значения имён, рассуждая следующим образом: Поскольку говорить о тождестве вещи самой себе бессмысленно, так как её самотождественность является исходным пунктом познания, но не его результатом, а тождественность знаков, ввиду произвольности выбранной системы обозначения, является результатом конвенции и тоже не имеет познавательного значения, постольку тождество может указывать только на равенство способов данности вещи. Так, выражения типа a=b указывают на равенство смысла имени а и смысла имени b[186]. Рассел посредством теории дескрипций показывает, что от такой сомнительной сущности, как смысл, можно отказаться. Тем не менее он употребляет знак ‘=’ при формулировке некоторых предложений, в которых утверждается тождество или различие вещей. Так, ‘($х)х=х’ в системе Principia Mathematica рассматривалось как логическое предложение, говорящее о существовании по крайней мере одной вещи. Отрицание у имён смысла не приводит к отрицанию необходимости тождества. Знак ‘=’ начинает рассматриваться как способ введения понятия вещи. Как считает Рассел, единственное a priori устанавливаемое свойство вещей заключается в их самотождественности, а потому предложение ‘a=a’ должно служить необходимой гипотезой всякого описания, использующего имена. Зафиксировав эту гипотезу в виде общего предложения ‘($х).х=х’, рассматриваемого как логическая истина, можно сформулировать любое предложение, в котором идёт речь о некотором количестве вещей. Например, описание, говорящее нечто о двух предметах, должно включать предложение ‘($х,y).х¹y’, говорящее о существовании двух вещей. Это утверждение основывается на том, что то, что является несамотождественным, не может быть одной вещью[187]. Таким образом, у Рассела речь идёт не о возможном совпадении смысла различных имён, но о возможности различения вещей, обозначаемых различными именами. Тесная связь тождества с существованием указывает на то, что введение тождества в систему Principia Mathematica имеет даже более важный смысл, нежели простое различение предметов. Некоторые утверждения, рассматриваемые в качестве аксиом логической теории, очевидно предусматривают тождество. Например, аксиома бесконечности, по сути дела, сводится к бесконечному логическому произведению ‘($х,y,z,…).х¹y×y¹z×x¹z×…’, которое должно рассматриваться как необходимая гипотеза любого описания, предполагающего натуральный ряд чисел[188].
Что здесь не удовлетворяет автора ЛФТ? Основанием пересмотра служит, видимо, то, что любая связь имён, как бы она не обозначалась, должна выражаться только материальной функцией. Отсюда парадоксальный характер тождества: Оно связывает имена, но в системах Фреге и Рассела рассматривается как выражение логических функций, которые, с точки зрения Витгенштейна, все являются формальными, т.е. априори установимыми из самого знака предложения. Однако если вопрос об отождествлении имён вывести на уровень рассмотрения знаков, то вопрос о тождественности вещей здесь не стоит вообще, он становится бессмысленным, а вопрос о тождественности имён излишен, так как всегда можно использовать разные имена.
Рассмотрим аргументацию Витгенштейна подробнее. Начнём с того, что он принимает теорию дескрипций, а потому перед ним не стоит вопрос о тождестве в смысле Фреге. Но и трактовка, предлагаемая Расселом, его не удовлетворяет. Для понимания того, что здесь всё же неудовлетворительно, рассмотрим, что пытается сказать Рассел, например, предложением ‘($х,y).х¹y×fx×fy’. Смысл, который можно приписать данному предложению, заключается в том, что существуют по крайней мере два аргумента, удовлетворяющие функцию ‘f’. Зачем здесь используется выражение с тождеством? Можно предположить, что оно различает предметы. Однако «сказать о двух вещах, что они тождественны, бессмысленно» [5.5303], отрицание же бессмысленного предложения столь же бессмысленно. Значит, это выражение не говорит о том, что два предмета являются различными. Единственная роль, которую оно может играть, связана с тем, что это выражение обеспечивает правильную форму аргументам, показывая, что f должна приписываться только именам и что таких имён по крайней мере два. Таким образом, ‘($х,y).х¹y’, а стало быть, и гипотеза ‘($х).х=х’, от которой оно производно, пытаются что-то сказать о прообразе аргумента функции. Однако это не имеет смысла, поскольку прообраз без всяких дополнительных условий показывает форму аргумента. И любое выражение, не удовлетворяющее этой форме, будет не ложным, а просто бессмысленным [5.5351]. В прообразе ‘fx’ переменное имя ‘x’ является знаком формального понятия ‘предмет’ [4.1272], которое дано уже вместе с подпадающим под него объектом [4.12721]. Следовательно, первообраз сам показывает наличие вещей без использования дополнительных гипотез, говорящих об этом. Можно говорить о существовании вещей, удовлетворяющих некоторую материальную функцию, например ‘($х).fх’, но говорить о существовании вещей как таковых смысла не имеет, поскольку это показывается самим знаком [4.1272].
К тому же любая попытка сказать нечто о формальных понятиях приводит к тому, что они наделяются материальным содержанием[189]. Действительно, если ‘($х).х=х’ рассматривать как логическое предложение, тогда ‘~($х).х=х’ должно быть противоречием. Однако это не так, поскольку «даже если это было бы предложением, разве оно не было бы истинным, даже если бы действительно ‘вещи существовали’, но при этом не были бы тождественны сами себе?» [5.5352]. Представление о самотождественности вещей подразумевает ссылку на опыт, что не может найти оправдания с точки зрения формальных свойств знаковой системы. Более того, логического противоречия нет и в том, чтобы два различных предмета с точки зрения всех присущих им свойств были тождественны друг другу, за исключением того, что они различны [2.0233; 2.02331][190]. Значит, и в этом случае тождество оказывается выражением столь же материальной функции, как и любая связь имён.
Таким образом, с точки зрения Витгенштейна, введение тождества не достигает своей цели. Оно не может говорить о существовании предметов, поскольку это и без того показано самим знаком, где фигурирует аргумент. Его бессмысленно использовать как для различения предметов, так и для отождествления одного и того же предмета, что к тому же привносит дополнительные допущения, касающиеся материального содержания мира. Всё это показывает, что тождество бессмысленно рассматривать как отношение между предметами.
Таким образом, от предложения ‘($х,y).х¹y×fx×fy’ остаётся только то, что имеется по крайней мере два имени. Но последнее обстоятельство можно выразить без всякого тождества простым различением используемых имён, всегда подразумевая, что разные имена обозначают разные предметы, а одно и то же имя обозначает один и тот же предмет. Но тогда вместо ‘($х,y).х¹y×fx×fy’ достаточно будет предложения ‘($х,y).fx×fy’. «Тождество предметов, – говорит Витгенштейн, – я выражаю тождеством знаков, а не с помощью знака тождества. Различие предметов – различием знаков» [5.53]. В этом случае вместо выражений с тождеством – например ‘f(a,b).a=b’ или ‘($х,y).f(x,y)× x=y’ – можно использовать предложения с различными именами, а именно: ‘f(a,a)’ и ‘($х).f(x,х)’ соответственно [5.531; 5.532; 5.5321]. «Следовательно, знак тождества не является существенной составной частью логической символики» [5.533]. Всякое претендующее на логическую всеобщность предложение, использующее знак тождества, на самом деле является псевдопредложением, так как пытается обосновать свою общезначимость, опираясь на свойство псевдознака, который исчезает при надлежащем логическом анализе. Витгенштейн руководствуется модифицированным принципом ‘Бритвы Оккама’, который в его интерпретации говорит, что «не необходимый элемент символики ничего не значит» [5.47321], а значит, в надлежащей логической символике псевдопредложения, типа ‘($х).х=х’ или ‘a=b×b=c.Éa=c’, которые Рассел считал логическими предложениями, вообще не могут быть записаны [5.534]. Тождество, таким образом, является излишним, и только вводит в заблуждения, затемняя действительную структуру знаковой системы.
Последнее имеет даже большее значение, чем устранение из логики тождества как логической константы. Поскольку ‘($х)х=х’ не является логическим предложением, постольку таковым не является и аксиома бесконечности: «То, что должна высказать аксиома бесконечности, могло бы выразиться в языке тем, что имеется бесконечно много имён с различным значением» [5.535]. К тому же Фреге и Рассел использовали тождество при определении числа. Отсюда можно сделать вывод, что если логицистская программа обоснования математики и верна, то она должна осуществляться отличным от Фреге и Рассела способом.
3.3.8. Пропозициональные установки
Общий взгляд Витгенштейна на то, что одно предложение может входить в другое только как основание операций истинности [5.54], на первый взгляд опровергают предложения с так называемыми пропозициональными установками. Кажется, что в выражения типа ‘А верит, что p’, ‘А знает, что p’, ‘А судит, что p’ и т.п. ‘р’ входит совершенно иным способом и должно трактоваться с точки зрения отношения к предмету А. Действительно, когда мы говорим: “Отелло убеждён, что Дездемона любит Кассио”, истинностное значение этого предложения может рассматриваться как независимое от истинностного значения предложения “Дездемона любит Кассио”, поскольку истинность первого предложения зависит от ментального состояния Отелло, но не от ложности второго предложения. Поэтому Рассел, например, рассматривал А как субъективный компонент суждения, определённым образом упорядочивающий компоненты, из которых состоит р и к которым А находится в отношении непосредственного знакомства. Витгенштейна такой подход не удовлетворяет, поскольку не исключает возможность бессмыслицы [5.5422], так как допускает комбинации, лишённые смысла, например “Сократ тождественнее Платона”, образованию которых с точки зрения расселовской теории суждения ничего не препятствует. «Правильное объяснение формы предложения ‘А судит, что p’ должно показать, что невозможно судить о бессмыслице» [5.5422], и уже в Заметках по логике Витгенштейн подвергает теорию Рассела серьёзной критике. Правда, там Витгенштейн продолжает трактовать А как предмет и рассматривает ‘А судит, что p’ с точки зрения отношения А к полюсам истинности р. Радикальное изменение трактовки А, практически совпадающее с позицией ЛФТ, обнаруживается в Заметках, продиктованных Муру. Здесь в одном из афоризмов говорится: «Отношение ‘Я верю, что р’ к ‘р’ можно сравнить с отношением ‘‘р’ говорит (besagt) р’ к р: как невозможно, чтобы я являлся простым, точно так же невозможно, чтобы простым являлось ‘р’» (ЗМ, С.146(6)).
Для разъяснения этого афоризма вернёмся к примеру с “Отелло убеждён, что Дездемона любит Кассио”. С точки зрения Рассела Отелло выступает конституентой этого предложения в той же мере как Дездемона и Кассио. В ‘А верит, что р’ А соотнесено с конституентами p. Это позволяет рассматривать ‘Отелло’ по аналогии с ‘Дездемона’ и ‘Кассио’ как имя предмета, а всё предложение анализировать как состоящее из имени и другого предложения, конституенты которого скомбинированы определённым образом согласно форме двухместного отношения (например, ‘а убеждён, что bRc’). Совершенно не так представляет себе ситуацию Витгенштейн. Рассматривать ‘Отелло’ как имя можно было бы только в том случае, если бы Отелло был простым предметом, каковым он не является. В примере речь идёт об определённом ментальном состоянии Отелло, которое помимо пропозициональной установки предполагает мысль о соответствующем состоянии дел. А значит, в “Отелло убеждён, что Дездемона любит Кассио” мы определённым образом соотносим не Отелло с фактом, а мысль Отелло с фактом. Таким образом, в выражении ‘А верит, что p’ соотносится не предмет и факт, а мысль и факт. Мысль же расчленима, она состоит из конституент. В одном из писем к Расселу Витгенштейн пишет: «Я не знаю, что представляют собой конституенты мысли, но я знаю, что она должна иметь такие конституенты, соответствующие словам языка» (ПР, С.156). Установление характера конституент мысли дело психологии, но не логики. Логика лишь фиксирует, что мысль представляет собой сложное образование. Предмет, в отличие от мысли, прост [2.02], а поскольку имя в предложении замещает предмет [3.22], постольку рассматривать ‘А’ как имя было бы неверно. Если А не является предметом, значит, и ‘A’ не является именем предмета.
На то, что я, а стало быть и А, фигурирующее в качестве субъекта, не является простым, указывают уже простейшие визуальные эффекты, например с картинками-перевёртышами (Д, С.45(10)) или нарисованным кубом, изображению которого могут соответствовать два различных образа в зависимости от того, какие грани воспринимаются первыми [5.5423]. Рисунок 2 даёт нам два различных факта в зависимости от того, переходим ли мы от аааа к bbbb, или наоборот.
b b
 |
a a
![]()
![]() b b
b b
a a
Восприятие рисунка 2 не является простой репрезентацией предмета. Соответствующий визуальный образ репрезентирует именно факт. Это возможно только потому, что сам визуальный образ является фактом. Предмет прост и дан только в структуре факта [2.02; 2.011]; любой комплекс либо дан в структуре факта [2.0201], либо сам является фактом [2.01]. Отношение к комплексу не может быть простым, поскольку образ выстраивает структуру комплекса, тем самым моделируя факт, в котором также соотнесены элементы. Стало быть, уже восприятие является не отношением предмета к предмету, но отношением факта к факту, в котором скоординированы элементы двух этих фактов.
Подобно тому, как в восприятии соотнесены элементы зрительного образа, в мысли соотнесены конституенты мысли. Мысль есть образ [3] и, стало быть, сама является фактом и соответствует некоторому факту [3.001]. В ‘А верит, что p’ речь идёт не о соотношении предмета и факта, а о соотношении факта и факта. Поскольку «мышление есть вид языка» (Д, С.105(2)), постольку соотношение мысли и факта аналогично соотношению элементарного предложения как факта и состояния дел. В письме к Расселу Витгенштейн пишет: «‘Состоит ли Gedanke из слов?’ Нет! Но из психических конституент, которые имеют тот же тип отношений к реальности, что и слова» (ПР, С.157). В “Отелло убеждён, что Дездемона любит Кассио” соотнесены не а и bRc, а ‘aRb’ и aRb. Для понимания характера такого соотнесения следует вспомнить афоризм 3.1432: «Неверно: “Комплексный знак ‘aRb’ означает, что а находится в отношении R к b”, верно же другое: “то, что ‘a’ стоит в определённом отношении к ‘b’, означает, что aRb”»; т.е. соотношением элементов образа выражено соотношение элементов факта. К тому же для логики несущественно различие психологических модусов, выраженных пропозициональной установкой. Использование, например, ‘верит’ свидетельствует лишь о выборе одной из мотивированных возможностей существования и несуществования (а именно первой), но выбор, выраженный пропозициональной установкой, в данном случае относится к психологической стороне дела и к логике отношения не имеет. Можно, правда, предположить, что указание на А соотносит предложение с определённым субъектом, который его высказывает, т.е. речь идёт об эмпирической привязке; но для объяснения сущности языка это никакого значения не имеет. Для логики неважно, кто именно высказывает предложение. Эмпирическая привязка осуществляется в конкретном акте мышления и относится к применению языка, но сам факт применения уже указывает на применяющего, поэтому и здесь включение А в предложение становится излишним[191].
Отсюда делается вывод, что «‘А верит, что р’, ‘А мыслит, что р’, ‘А говорит, что р’ имеют форму: “‘р’ говорит р”. И дело здесь не в соотнесении факта и предмета, но в соотнесении фактов посредством соотнесения их предметов» [5.542].
Представленная экспозиция показывает, что логический анализ Витгенштейном предложений типа ‘А верит, что р’ основан, во-первых, на замене простого предмета А сложным образом ‘p’ и, во-вторых, на элиминации всего психологического и эмпирического. Однако как только такой анализ проведён, оказывается, что в предложениях типа ‘А верит, что р’ речь идёт о проективном отношении образа к факту, о котором, согласно общей установке ЛФТ, ничего сказать нельзя [2.172; 4.022; 4.12-4.1212]. Проективное отношение к р показано предложением ‘р’ и не требует дополнительной констатации. Предложение “‘р’ говорит р” не говорит ничего, помимо ‘р’, вернее оно пытается сказать то, что и так показано, когда понято ‘р’; т.е. с точки зрения логики предложение ‘А верит, что р’ и ему подобные не говорят ничего, помимо ‘р’, поскольку при надлежащем логическом анализе выражение ‘А верит, что…’ просто исчезает[192]. Отсюда вытекает, что подобные предложения с точки зрения логической структуры языка являются псевдопредложениями и должны быть исключены из языка логики[193]. Таким образом, предложения с пропозициональными установками не нарушают общий принцип, что все предложения являются функциями истинности элементарных предложений.
Анализ Витгенштейном предложений с пропозициональными установками развивается в русле его общего подхода к теории познания. Для Рассела, как указывалось выше, рассмотрение подобных предложений служило теоретико-познавательной основой объяснения всех предложений, поскольку именно синтетическая деятельность субъекта рассматривалась как то, что конституирует их истинностное значение. Для Витгенштейна логическое прояснение сущности предложения предшествует любой теории познания. В данном случае этот ход оправдан уже тем, что исключает возможность бессмысленных утверждений, поскольку ‘р’ находится в отношении проекции к р. Эмпирическая привязка ‘р’ указывает только на конкретное применение, которое может не совпадать с действительным фактом, но оно не может сделать ‘р’ бессмысленным, поскольку последнее предполагает проективное отношение к действительности, задающее возможность истинности и ложности. В этом смысле можно судить, что “Дездемона любит Кассио”, но нельзя судить, что “Дездемона тождественнее Кассио”, поскольку последнее не содержит никакой проекции. Проекция не создаётся субъектом, но является априорной сущностью предложения.
3.3.9. Общая форма предложения
Разъяснения, данные Витгенштейном отдельным видам предложений, позволяют теперь дать конкретное выражение важной идеи, что «вся логика вытекает только из одного предложения», сообщённой им в письме к Расселу (ПР, С.151). Речь здесь, разумеется, идёт не о каком-то действительном предложении, так как оно подразумевало бы совершенно определённый смысл, характеризующий его особое отношение к реальности, а об общей форме, которая позволяет конструировать любое возможное предложение. «То, что существует общая форма предложения, доказывается тем, что не может быть ни одного предложения, чью форму нельзя было бы предвидеть (т.е. сконструировать)» [4.5]. Поскольку «мы можем предвидеть только то, что конструируем сами» (Д, С.92(5)), возможность построения такой формы не выходит за рамки комбинаторики со знаками и не требует обращения к опыту. «Если бы нельзя было задать наиболее общую форму предложения, тогда должен был бы наступить момент, когда мы внезапно обрели бы новый опыт, так сказать, логический. Это, конечно, невозможно» (Д, С.97(6)).
Последнее требует пояснений, особенно в связи со взглядами Фреге и Рассела. Как указывалось выше, способ введения логических констант, ориентированный на действительный язык, требовал от Фреге и Рассела обращения к особому логическому опыту, в котором даны своеобразные логические предметы. Ещё более очевидной апелляция к опыту становится при рассмотрении тождества. Поэтому введение различных видов предложений сводилось для них к каталогизации результатов такого опыта. Для этого фиксировался смысл логических констант, затем указывались способы построения сложных выражений, использующих эти константы. Например, осмысленное оперирование предложением ‘pÚq’ требовало понимания не только ‘p’ и ‘q’, но и ‘Ú’, иначе затруднительно было бы сказать, что в ‘pÚqÚr’ знак ‘Ú’ употребляется в том же самом смысле, как в ‘pÚq’.
Анализ Витгенштейна показывает, что любое предложение является результатом применения операций истинности к функциям истинности, в противном случае выражение является псевдопредложением и не должно приниматься в расчёт. Никаких логических констант, как их понимали Фреге и Рассел, нет; логические союзы являются выражением операций истинности, которые даны уже вместе со знаком любого предложения. Следовательно, никакого обращения к опыту для построения возможных форм предложения не требуется. Предложения, конечно, имеют нечто общее и, если имеет смысл говорить о логических константах, то они должны фиксировать как раз то общее, что обнаруживается в операциях. Иными словами: «единственная логическая константа есть то, что все предложения, по своей природе, имеют общим друг с другом» [5.47]. Фреге и Рассел вводили операции как логические константы на том основании, что они встречаются в разных предложениях. В этом смысле логические союзы рассматривались как первичные знаки, из которых строятся все возможные предложения. Но если первичных знаков в таком смысле нет, то возможность любого предложения должна предусматриваться не знаками, из которых оно построено, а самим предложением. Предложение должно само предусматривать – и, как ясно из вышеизложенного, предусматривает – операции, которые с ним можно осуществить. Раз логические союзы даны уже в элементарном предложении, они не могут быть первичными в том смысле, в котором из первичных знаков строятся другие знаки. Если и есть первичный знак, то он должен быть не чем иным, как знаком предложения или, вернее, знаком общей формы предложения, с точки зрения которой строятся все предложения. Такую форму Витгенштейн вводит в афоризме 6:
![]()
![]()
![]() «Общая форма функции истинности есть:
«Общая форма функции истинности есть:
[ p, x, N ( x )].
![]()
![]() Это есть общая форма предложения».
Это есть общая форма предложения».
![]()
![]() Здесь p есть класс элементарных предложений; x – класс
произвольных предложений, построенных из элементарных, включающий в том числе и
сами элементарные предложения; N(
x ) – описанная
ранее операция совместного отрицания всех возможных комбинаций предложений,
входящих в класс x. С
точки зрения применения операции любая последовательность знаков,
рассматриваемая как предложение, либо построена согласно данной форме[194],
либо является псевдопредложением и исчезает при соответствующем анализе.
Здесь p есть класс элементарных предложений; x – класс
произвольных предложений, построенных из элементарных, включающий в том числе и
сами элементарные предложения; N(
x ) – описанная
ранее операция совместного отрицания всех возможных комбинаций предложений,
входящих в класс x. С
точки зрения применения операции любая последовательность знаков,
рассматриваемая как предложение, либо построена согласно данной форме[194],
либо является псевдопредложением и исчезает при соответствующем анализе.
![]()
![]()
![]() Для правильного понимания данной формы необходимо
учесть два обстоятельства. Во-первых, все элементы класса x построены
из элементов класса p согласно
указанной операции. Поэтому их конструкция известна a priori.
Что касается элементов класса p , то они построены из имён [3.202],
замещающих в предложении предмет [3.22]. Поскольку a priori не известно,
сколько имеется предметов, а значит, сколько необходимо использовать разных
имён, постольку установить a
priori конструкцию всех возможных элементарных предложений
невозможно [5.55]. Нельзя заранее решить, сколько имён может входить в
предложение, а сколько – нет [5.5541]. Единственное, на что можно указать относительно элементарных
предложений согласно общей форме, так это на их расчленимость, поскольку общая
форма предусматривает всеобщность [5.52], а всеобщность указывает
на составленность [5.5261]. И хотя состав элементарного предложения определяет
только применение логики [5.557], а не её априорная конструкция, элементарными
предложениями всё же можно оперировать a priori,
поскольку мы знаем, что они состоят из имён. Нельзя, например, заранее решить,
имеется ли действительное состояние дел, соответствующее 27-местному отношению [5.5541], но зато в самом понятии составленности нет ничего такого, что
препятствовало бы возможности оперирования формой предложения, состоящей из 27
имён. И нет ничего в конструкции логики, что препятствовало бы применению
операций истинности к такому предложению. А значит, хотя a priori нельзя
установить, какими действительно могут быть элементарные предложения, a priori можно
установить, какими они могут быть в возможности, а это – всё, что затрагивает
логику (Д, С.37(5)), т.е. и здесь логика не выходит за рамки
оперирования знаками; она лишь предполагает, что они могут иметь возможную
реализацию. Общая форма, таким образом, даёт возможность построения всех
предложений, включая элементарные, не решая вопроса о том, имеют ли они
адеквацию в действительности.
Для правильного понимания данной формы необходимо
учесть два обстоятельства. Во-первых, все элементы класса x построены
из элементов класса p согласно
указанной операции. Поэтому их конструкция известна a priori.
Что касается элементов класса p , то они построены из имён [3.202],
замещающих в предложении предмет [3.22]. Поскольку a priori не известно,
сколько имеется предметов, а значит, сколько необходимо использовать разных
имён, постольку установить a
priori конструкцию всех возможных элементарных предложений
невозможно [5.55]. Нельзя заранее решить, сколько имён может входить в
предложение, а сколько – нет [5.5541]. Единственное, на что можно указать относительно элементарных
предложений согласно общей форме, так это на их расчленимость, поскольку общая
форма предусматривает всеобщность [5.52], а всеобщность указывает
на составленность [5.5261]. И хотя состав элементарного предложения определяет
только применение логики [5.557], а не её априорная конструкция, элементарными
предложениями всё же можно оперировать a priori,
поскольку мы знаем, что они состоят из имён. Нельзя, например, заранее решить,
имеется ли действительное состояние дел, соответствующее 27-местному отношению [5.5541], но зато в самом понятии составленности нет ничего такого, что
препятствовало бы возможности оперирования формой предложения, состоящей из 27
имён. И нет ничего в конструкции логики, что препятствовало бы применению
операций истинности к такому предложению. А значит, хотя a priori нельзя
установить, какими действительно могут быть элементарные предложения, a priori можно
установить, какими они могут быть в возможности, а это – всё, что затрагивает
логику (Д, С.37(5)), т.е. и здесь логика не выходит за рамки
оперирования знаками; она лишь предполагает, что они могут иметь возможную
реализацию. Общая форма, таким образом, даёт возможность построения всех
предложений, включая элементарные, не решая вопроса о том, имеют ли они
адеквацию в действительности.
Учитывая то, что ранее было сказано об операциях истинности, можно утверждать, что в общей форме предложения даны все внутренние отношения всех возможных предложений. В этом смысле общая форма предложения действительно является единственным знаком, из которого вытекает вся логика или, лучше сказать, в котором вся логика содержится в свёрнутом виде. И если рассматривать логику в традиционном смысле, как форму систематического единства знания, то общая форма предложения есть не что иное, как выражение этого систематического единства[195].
3.3.10. Тавтология и противоречие
![]() Среди
результатов последовательного применения операции N( x ) особый
интерес вызывают два варианта: вариант, при котором предложение истинно для
любых возможностей истинности, и вариант, когда предложение для любых возможностей
истинности ложно (например, таблица 5). Эти случаи, называемые тавтологией и
противоречием соответственно, нарушают принцип биполярности. Однако для
Витгенштейна это не означает, что данный принцип не является универсальным. Как
раз наоборот, это показывает, что тавтология и противоречие не являются
действительными предложениями.
Среди
результатов последовательного применения операции N( x ) особый
интерес вызывают два варианта: вариант, при котором предложение истинно для
любых возможностей истинности, и вариант, когда предложение для любых возможностей
истинности ложно (например, таблица 5). Эти случаи, называемые тавтологией и
противоречием соответственно, нарушают принцип биполярности. Однако для
Витгенштейна это не означает, что данный принцип не является универсальным. Как
раз наоборот, это показывает, что тавтология и противоречие не являются
действительными предложениями.
Каждое действительное предложение может быть как истинным, так и ложным. Говорить же об истинности тавтологии можно лишь фигурально, поскольку способность к истине предполагает способность к ложности. Значит, «о тавтологии нельзя сказать, что она истинная, так как она создана истинной» (Д, С.75(7)). По этой же причине не имеет смысла говорить и о ложности противоречия. Таким образом, «тавтология не имеет условий истинности, потому что она безусловно истинна; а противоречие ни при каких условиях не истинно» [4.461]. Условия истинности связывают предложение с действительностью, они указывают на существование и несуществование состояний дел. Отсутствие условий истинности у тавтологии и противоречия показывают, что они не связаны с действительностью, они ничего не говорят о возможности фактов: «Предложение показывает, что оно говорит, тавтология и противоречие показывают, что они ничего не говорят» [4.461]. На это указывают особенности функционирования тавтологии и противоречия в рамках знаковой системы. Относительно тавтологии, например, можно указать следующее:
1) «р × тавтология = р, т.е. тавтология не говорит ничего» (Д, С.54(5)).
В самом деле, логическое произведение тавтологии и любого предложения тождественно самому этому предложению, следовательно, тавтология ничего к нему не добавляет, «потому что нельзя изменить существа символа, не изменяя его смысла» [4.465]. Последнее можно рассматривать в двух отношениях. Во-первых, согласно функциональной точке зрения возможности истинности неэлементарного предложения однозначно определены условиями истинности его конституент [5; 5.3]. Но присоединение тавтологии не затрагивает возможности истинности целого, поэтому условия истинности тавтологии, если таковые ей могут быть приписаны, не оказывают никакого влияния на возможности истинности того предложения, конституентой которого она является. В этом смысле тавтология формально пуста. Во-вторых, поскольку «смысл функции истинности р есть функция смысла р» [5.2341], то смысл предложения определяется смыслом его конституент. В рассматриваемом случае тавтология не вносит никаких содержательных изменений в смысл целого. Следовательно, она пуста также и содержательно.
2) «Тавтология следует из всех предложений: она ничего не говорит» [5.142].
То, что тавтология выводима из всех предложений, нетрудно установить согласно данному выше определению логического следования. А то, что это свидетельствует о её бессодержательности, становится ясным, если учесть, что отношение следования устанавливает меру величины сказанного. Для двух предложений, где из одного следует другое, первое говорит больше второго [5.14], поскольку в этом случае основания истинности второго предложения содержат основания истинности первого [5.12], а значит, оставляют фактам больше места, чем первое предложение [4.463]. Первое предложение говорит о действительности больше второго, поскольку в большей степени ограничивает возможность существования состояний дел[196]. Основания истинности тавтологии содержат основания истинности всех предложений, т.е. тавтология вообще не ограничивает действительность, оставляя ей всё логическое пространство, она ничего не говорит.
3) «Предложения, которые истинны для любого положения вещей, вообще не могут быть никакими сочетаниями знаков, так как иначе им могли бы соответствовать только определённые сочетания предметов» [4.466].
Согласно изобразительной теории структура предложения показывает структуру состояния дел, о котором оно говорит. Состояние дел есть сочетание предметов, и это сочетание отображается в сочетании имён, составляющих предложение. Действительное предложение содержательно нагружено, так как сочетание имён определяет его возможный смысл [3.21; 3.1431]. Поэтому тавтология бессодержательна, она ничего не ‘показывает’ в структуре факта, поскольку допускает любое сочетание значений знаков.
Таким образом, тавтология не отвечает пониманию предложений как выражений со смыслом, они образуют разновидность того, что Витгенштейн называет псевдо-предложениями, структурами, которые лишь по видимости удовлетворяют функциям, приписываемым содержательно нагруженным выражениям языка. Правда, так как тавтология ничего не говорит о действительности, можно предположить, что она говорит о самой себе. Но, согласно общей позиции ЛФТ, о структуре сочетаний знаков вообще ничего нельзя сказать, это относится к показанному: «Каждая связь знаков, которая, казалось бы, говорит нечто о своём собственном смысле является псевдо-предложением» (Д, С.29(1)).
Тавтология и противоречие находятся в сущностной связи, так как они получаются простым отрицанием друг друга. Поэтому, если руководствоваться обратной аналогией, то что говорилось о тавтологии, можно mutatis mutandis применить и к противоречию. А именно, поскольку основания истинности противоречия не содержат основания истинности никакого предложения и, следовательно, никакого возможного смысла, постольку: 1) логическое произведение противоречия и предложения тождественно противоречию, так как отсутствие смысла несовместимо ни с каким смыслом; 2) из противоречия следует любое предложение, так как отсутствие смысла позволяет допустить любой смысл; 3) предложения, которые ложны при любом положении вещей, не могут быть никакими комбинациями знаков, так как не допускают никакой комбинации их значений.
Поскольку «нет образа истинного a priori» [2.225], постольку тавтология не является образом. Поскольку «предложение – образ действительности» [4.01], постольку тавтология не является предложением, действительным предложением, нечто говорящем о мире. То же самое относится к противоречию, так как нет образа a priori ложного. Тавтология и противоречие не являются образами действительности, «они не изображают никакого возможного положения вещей, поскольку первая допускает любое возможное положение вещей, а второе не допускает никакого» [4.462]. Всё это показывает, что тавтология и противоречие являются предельным случаем комбинации знаков, а именно – их исчезновением [4.466], где тавтология исчезает внутри всякого предложения, а противоречие – вне всех предложений [5.143].
![]() Истинность или ложность подлинного предложения всегда
случайна. Мы понимаем предложение, когда знаем, что имеет место в случае его
истинности и что имеет место в случае его ложности. Подлинное предложение имеет
смысл, предопределённый наличием двух полюсов. В этом отношении тавтология и
противоречие, имеющие единственный полюс, лишены смысла. Но они не бессмысленны,
как бессмысленна, например, несвязная комбинация знаков. Не являются они и
псевдопредложениями в том же самом смысле, в котором псевдопредложениями
являются предложения с тождеством и пропозициональными установками. На это
указывает уже то, что тавтологию и противоречие можно получить простым
применением операции N( x ) к подлинным предложениям, которая сама по себе не
способна сделать комбинацию знаков бессмысленной. Однако применение этой
операции может привести к тому, что «условия соответствия с миром – отношения
изображения – взаимно аннулируются, так что они не стоят ни в каком отношении
изображения к действительности» [4.462]. Но если тавтология и противоречие
ничего не говорят о действительности и всё же не являются бессмысленными,
единственное, к чему они могут относиться, – это знаковая система; «они
являются частью символизма подобно тому, как ‘0’ есть часть символизма
арифметики» [4.4611].
Истинность или ложность подлинного предложения всегда
случайна. Мы понимаем предложение, когда знаем, что имеет место в случае его
истинности и что имеет место в случае его ложности. Подлинное предложение имеет
смысл, предопределённый наличием двух полюсов. В этом отношении тавтология и
противоречие, имеющие единственный полюс, лишены смысла. Но они не бессмысленны,
как бессмысленна, например, несвязная комбинация знаков. Не являются они и
псевдопредложениями в том же самом смысле, в котором псевдопредложениями
являются предложения с тождеством и пропозициональными установками. На это
указывает уже то, что тавтологию и противоречие можно получить простым
применением операции N( x ) к подлинным предложениям, которая сама по себе не
способна сделать комбинацию знаков бессмысленной. Однако применение этой
операции может привести к тому, что «условия соответствия с миром – отношения
изображения – взаимно аннулируются, так что они не стоят ни в каком отношении
изображения к действительности» [4.462]. Но если тавтология и противоречие
ничего не говорят о действительности и всё же не являются бессмысленными,
единственное, к чему они могут относиться, – это знаковая система; «они
являются частью символизма подобно тому, как ‘0’ есть часть символизма
арифметики» [4.4611].
Несмотря на то, что тавтология и противоречие ничего не говорят, тавтологии и противоречия нечто показывают в структуре знаков, они нечто показывают о природе логической формы[197]. В тавтологиях и противоречиях обнаруживают себя внутренние отношения между знаками предложений. Например, в отличие от действительных предложений ‘p’ и ‘~p’, противоречие ‘p× ~p’ ничего не говорит, но оно показывает, что эти предложения, будучи объединены таким образом, не говорят ничего, поскольку, как видно из таблицы 10, несовместимы их условия истинности. А стало быть, согласно свойствам логического следования, нет никакого действительного предложения, которое вытекало бы как из ‘p’, так и из ‘~p’.
|
p |
~p |
p× ~p |
|
И |
Л |
Л |
|
Л |
И |
Л |
(таб.10)
Также и тавтология ‘(p×q)É(pÚq)’ показывает, что условия истинности ‘p×q’ содержатся в условиях истинности ‘pÚq’ (таблица 11), что согласно определению логического следования означает выводимость второго предложения из первого.
|
p×q |
pÚq |
(p×q)É(pÚq) |
|
И |
И |
И |
|
Л |
И |
И |
|
Л |
И |
И |
|
Л |
Л |
И |
(таб.11)
Все тавтологии и противоречия, разумеется, показывают нечто различное, но показывают они это одинаковым способом, а именно, что при определённой комбинации знаки предложений утрачивают связь с действительностью, сохраняя лишь то, что характеризует их внутренние отношения друг с другом, и прежде всего, как видно из примеров, отношение логического вывода. Именно поэтому в градации тавтология – действительное предложение – противоречие уже присутствует ряд вероятностей [4.464; 5.1], так как тавтология и противоречие показывают крайние точки его шкалы, связанные с достоверностью или отсутствием логического вывода как предельного выражения отношений между предложениями [5.152].
3.4. Логика: Концепутализация теоретического
Анализ символических особенностей элементов знаковой системы, вытекающий из ‘всеобщей и необходимой природы знаков’, позволяет ответить на основной вопрос, который Витгенштейн ставит во введении к ЛФТ. Что же может быть сказано ясно, а о чём все-таки следует молчать? Общая форма предложения, позволяющая a priori оперировать любым предложением, форму которого можно предвидеть, решает, что можно отнести к области теоретического, а что нет. Здесь находят своё объяснение области знания, которым теоретическая мысль всегда пыталась придать определённый статус. Все науки должны быть выведены из свойств знаковой системы, но решить это должна сама знаковая система с точки зрения того, какие предложения находят в ней своё обоснование. Свойства знаковой системы предопределяют классификацию наук, которые необходимо объяснить не с точки зрения того, в каких предложениях выражено их содержание, наоборот, различие предложений, заданное знаковой системой, должно определить, какие предложения относятся к одной и той же рубрике.
Здесь обнаруживается главная новация Витгенштейна. Критическая философия со времён Канта ставила перед собой цель, учитывая особенности опыта, объяснить способы, в которых он может быть зафиксирован. Иное дело проект ЛФТ. Витгенштейн, отталкиваясь от черт знаковой системы, различным теоретическим областям находит соответствующее место, предопределённое свойствами самой знаковой системы. Вопрос не в том, чтобы объяснить возможность той или иной науки, наоборот, черты знаковой системы сами указывают на то, какие теоретические области существуют. Здесь снимается проблема субъективной компоненты. Не мы решаем, какое предложение относится к той или иной области знания. Знаковая система сама решает, какие выражения относятся к одной и той же рубрике. Понимание языка выражается в чувстве различия предложений, но вместо того, чтобы объяснять области знания возможностью этих различий, необходимо выявить существенное и необходимое в знаковой системе, а она сама из особенностей функционирования знаков покажет, какие по существу различные области есть, а каких нет.
Вопрос, поставленный Витгенштейном, не кантианский по сути. Проблема не в том, как возможны те или иные суждения, а в том, какие типы предложений, порождённые спецификой знаковой системы, образуют ту или иную науку. Дело, собственно, в следующем: Кант разводит суждения типа: “Tertium non datur”, “2+5=7”, “Каждое следствие имеет причину” по разным областям. Но на каком основании? Где критерий? Основной вопрос Критики чистого разума “Как возможны синтетические суждения a priori?” предполагает, что различие суждений уже задано образом сложившихся наук. Стремление объяснить математику или естествознание предполагает определённость того, что относится к их компетенции. Но тогда рассуждение Канта содержит круг. Действительно, для различения наук нам необходим однозначный критерий, но поскольку мы отталкиваемся от их различия, этот критерий уже присутствует в качестве скрытой предпосылки. Стремление объяснить суждения логики в их отличии, скажем, от суждений математики уже предполагает, что мы всегда можем их различить. Это различие вряд ли можно основать на сложившейся практике науки или чувстве субъективной уверенности. Скорее различие коренится в интуиции языка, которая разводит их по разным областям. Но тогда критерий нужно искать в самом языке, в природе его знаков.
Критическая установка Витгенштейна, стало быть, результируется не в вопросах типа “Как возможна логика?”, “Как возможна математика?”, “Как возможно естествознание?”. Скорее, основную проблему можно сформулировать так: “Какие черты знаковой системы образуют ту или иную науку, если таковая возможна вообще?” Условие, выраженное в последнем вопросе, также должно пониматься соответствующим образом. Невозможность, которую, например, Кант сводит к диалектической видимости, порождена не ограниченностью опыта, но ограниченностью выразительных возможностей самой знаковой системы.
Таким образом, концептуализация сферы теоретического представлена у Витгенштейна вопросом о том, чем являются предложения определённой науки (если о предложениях, согласно установке той или иной области знания, возможно порождённой ‘диалектической видимостью’, вообще может идти речь). Конкретизация этого вопроса образует параллель проблемам, поставленным во введении к Критике чистого разума И.Канта, а именно: “Что представляют собой предложения логики?”, “Что представляют собой предложения математики?”, “Что представляют собой предложения естествознания?”.
3.4.1. Предложения логики
В афоризме 6.1 Витгенштейн говорит: «Предложения логики суть тавтологии». Из этого утверждения вытекают все особенности логики. Свойства тавтологий, установленные в Заметках, продиктованных Дж.Э.Муру и вытекающие из особенностей таблиц истинности ЛФТ, предопределяют, как трактовать эту науку.
Предложения логики получают исключительное положение среди всех других предложений [6.112], поскольку они, как тавтологии, ничего не говорят [6.11]. Значит, любые теории, в которых предложения логики выглядят как содержательные, ошибочны [6.111]. К таковым относится теория Фреге и, тем более, теория Рассела, который в качестве логических предложений принимает ряд содержательных положений, в частности аксиому бесконечности и аксиому сводимости. Аксиомы, вводимые в систему Principia Mathematica, дают характеристику описываемого мира, а потому, как выражающие определённое содержание, не могут относиться к логике[198]. Любое предложение, выражающее содержание, предполагает возможность быть истинным и быть ложным. Такова, например, аксиома бесконечности, возможная истинность которой зависит от осмысленности её отрицания. Поэтому из самой логики, которая имеет дело только с возможностью оценки, нельзя установить, что именно истинно, аксиома бесконечности или её отрицание. Логика допускает и то и другое; к её компетенции не относится вопрос о том, сколько существует предметов в мире.
Выбор возможности определяется только соответствием с действительностью. Тавтологии же не допускают различных вариантов оценки, а потому, предложения логики именно ‘созданы истинными’. Их признаком, например, не является общезначимость [6.1231], поскольку ‘Для всех х …’ может означать лишь случайное значение для всех имеющих место предметов и, значит, допускает осмысленную альтернативу. Но у предложений логики нет альтернативы, неважно, указывают они на какой-то особый предмет или на все предметы сразу. Предложение ‘faÚ~fa’ обоснованно в той же мере, как и предложение ‘(x)(fxÚ~fx)’; первое предложение не является следствием второго. Здесь не нужно формулировать особое правило, позволяющее переходить от второго предложения к первому. Мы опознаём истинность предложения “Данная роза красная или не красная” независимо от опознания истинности предложения “Каждый предмет обладает или данным свойством, или свойством, ему противоположным”. «Необобщённое предложение может быть тавтологичным точно так же, как и обобщённое предложение» [6.1231]. Логическая общезначимость противостоит общезначимости действительных предложений как существенное случайному. ‘Для всех х …’ указывает на то, чему случилось быть; в противоположность этому ‘pÚ~p’ показывает, чего избежать невозможно. Предложение “Все люди смертны” вызывает сожаление лишь потому, что нам понятны условия, при которых оно могло бы быть ложным, но тавтология “Все люди смертны или существует бессмертный человек” не вызывает никаких эмоций, поскольку её истинностная оценка не предполагает альтернативы. Всякое предложение, допускающее осмысленное отрицание (а таковыми являются и сомнительные допущения Рассела, типа аксиомы сводимости или бесконечности), не являются общезначимыми в логическом смысле, они истинны лишь благодаря ‘счастливой’ случайности и потому должны быть выведены за рамки компетенции логики. Соответствующий им мир всегда мог бы быть другим (например, всегда можно представить себе действительность, где аксиома сводимости была бы неверна), но «логика не имеет никакого отношения к вопросу о том, таков ли наш мир в действительности или нет» [6.1233].
Характер общезначимости логических предложений вытекает из особенностей их истинностной оценки: «Специфическим признаком логических предложений является то, что их истинность узнаётся из одного лишь символа» [6.113]. Примером процедуры такого узнавания может служить ab-запись [6.1203], разработанная ещё в Заметках по логике и к случаю тавтологий особо применённая в Заметках, продиктованных Дж. Э.Муру. Конкретный пример подобной процедуры не имеет особого значения, он может быть совершенно иным [6.126], важно лишь то, что принадлежность предложения логике «можно вычислить вычислением логических свойств символа» [6.126] (и запись в таблицах истинности в данном случае может служить альтернативным примером). Другое дело, что истинность действительных предложений никогда нельзя установить исключительно из их символических особенностей. Любое действительное предложение предполагает соответствие с действительностью, и без такого предположения теряет всякий смысл. Таблицы истинности и аb-запись показывают, что предложение ‘pÚ~p’ является существенно истинным, но они не могут показать, что истинным является ‘p’ или ‘~p’. Здесь требуется апелляция к тому, что имеет место на самом деле. Различие в способах установления истинности предложений (т.е. различие между тем, достаточно ли одних знаков или же требуется обращение к тому, что выходит за рамки знаков самих по себе) «заключает в себе всю философию логики» [6.113]. Тавтологичность предложения есть характеристика его существенной истинности [6.1232], которая противоположна всему тому, что может подтверждаться или опровергаться любой реальностью, которую мы могли бы вообразить. Логические предложения ставят предел воображению в том смысле, что воображение не может выйти за рамки их существенной истинности, поскольку их истинность определяется невозможностью осмысленного отрицания.
Как тавтологии предложения логики ничего не говорят, но как тавтологии они нечто показывают. Они показывают формальные, логические свойства языка, а через форму отображения (логическую форму) и свойства мира [6.12]. Это нужно понимать так, что логика ничего не говорит о мире, но она показывает, какими необходимыми чертами он должен обладать, чтобы о нем вообще можно было что-то сказать. Логические предложения показывают отличительные особенности структуры действительных предложений, проявляя их внутренние отношения. Например, ‘~(p×~p)’ показывает, что ‘p’ и ‘~p’ противоречат друг другу; ‘pÉq×p:É:q’ показывает, что из ‘pÉq’ и ‘p’ следует ‘q’; ‘(x)fx:É:fa’ показывает, что ‘fa’ следует из ‘(x)fx’ и т.п. [6.1201][199]. Обнаруживая существенную истинность в самом знаке, логические предложения показывают, что, будучи соединены определённым способом, подлинные предложения утрачивают связь с действительностью. Компоненты логических предложений, которые сами по себе нечто говорят, образуя при определённых условиях тавтологию, показывают внутренние связи знаковой системы, без которых они ничего не могли бы сообщить нам о мире. «Предложения логики демонстрируют логические свойства предложений, связывая их в ничего не говорящие предложения» [6.121]. Примеры показывают, что эти логические свойства касаются прежде всего отношения логического следования, поэтому каждое логическое предложение можно трактовать как «изображённый в знаках modus ponens» [6.1264].
Самое интересное здесь то, что согласно пониманию внутренних отношений от логических предложений можно отказаться вообще. Действительно, при соответствующем способе записи (таблицы истинности) логические свойства подлинных предложений, отражающие отношение логического следования (а также родственные ему отношения непротиворечия, относительной вероятности и т.д.), можно видеть из наблюдения за самими этими предложениями. Для демонстрации того, что из ‘pÉq’ и ‘p’ следует ‘q’ не обязательно конструировать логическое предложение ‘pÉq×p:É:q’ и показывать, что оно является тавтологией. Как видно из таблицы 9 предложения ‘pÉq’ и ‘p’ сами показывают, что из них следует ‘q’. Точно так же взаимную противоречивость ‘p’ и ‘~p’ не обязательно обосновывать ссылкой на то, что ‘~(p×~p)’ является логическим предложением. Таблица 10 без дополнительных усилий показывает, что условия истинности этих предложений несовместимы. В соответствующей записи логические свойства предложений устанавливаются простым наблюдением за их структурой. Поэтому «если мы знаем логический синтаксис какого-либо знакового языка, то уже даны все предложения логики» [6.124].
Но это не означает, что логические предложения совершенно бесполезны. Построение логической теории реализует определённый теоретический интерес. Логическая теория не нужна там, где использование языка ограничивается высказыванием предложений о действительности. Здесь достаточно той демонстрации логических свойств, которую обнаруживают сами предложения. Но если мы пытаемся представить эти свойства в чистом виде, то без логических предложений не обойтись. Логические предложения в самом деле ничего не говорят, но они являются результатом разработки и приведения в систематическую связь свойств самой знаковой системы. Потребность в логических истинах коренится в том, что «мы можем требовать удовлетворительного способа записи» [6.1223] и логические предложения показывают его внутреннюю структуру, отвлекаясь от всего случайного и несущественного, что связано с содержанием этой структуры. Логические предложения не говорят о том, что описывается, но показывают, как строится описание; они «описывают строительные леса мира, или, скорее, изображают их» [6.124]. Именно в этом смысле логика обычно называется учением о формах и выводе [6.1224]. Теория логического следования показывает внутренние отношения предложений, выстраивая систематическое единство истин.
Связь логических предложений с миром ограничивается предположением о том, что знаки, которыми оперирует язык, имеют некоторую интенцию значения, предопределённую их символическими особенностями. Это предположение раскрывается в логической теории в том, что скомбинированные определённым образом знаки дают тавтологию, т.е. утрачивают эту связь, сводят к нулю свои символические особенности [6.121]. Но это и является самым важным для логики, поскольку показывает границы выразительных возможностей знаковой системы. Если, например, мы опознаём ‘faÚ~fa’ как тавтологию, это показывает, что помимо ‘fa’ и ‘~fa’ ничего третьего в знаковом языке сформулировать невозможно; тавтологичность ‘pÉq×p:É:q’ или ‘(x)fx:É:fa’ показывает, что при истинности соответствующих условий невозможна ложность вытекающих из них следствий и т.п. В языке нельзя выйти за рамки логики, за рамки, систематически показанные логическими предложениями, так как тогда язык перестал бы быть языком [3.03–3.0321]. Всё это характеризует логику как выражение внутренней целесообразности языка, как теорию показывающую, то ‘естественно необходимое’, что заключено в природе знаков [6.124].
Итак, предложения логики характеризуются следующими признаками:
– их истинность опознаётся из особенностей самого символа, т.е. является существенной в противовес случайной истинности действительных предложений;
– они ничего не говорят о действительности, а потому бессодержательны, формальны;
– они показывают свойства знаковой системы, представляя их в систематическом виде.
Особый смысл эти признаки приобретают в связи с тем, что предложения логики Витгенштейн называет аналитическими предложениями [6.11]. Со времён Канта вопрос о критерии, позволяющем различать аналитические и синтетические истины, являлся определяющим для любой теории, которая претендует на установление границ компетенции формальной логики. Если обратиться к самому Канту, то предложенный им критерий представляется не то чтобы недостаточным, но вызывает чувство неудовлетворённости нерешённостью статуса своего основания. Кант говорит, что аналитично то предложение, истинность которого обосновывается согласно закону непротиворечия. Однако сам закон непротиворечия рассматривается как аналитическая истина. Но где же тогда обнаружить основание его самого? Ответ на этот вопрос в высшей степени непрост. Решение проблемы всегда исходило бы из предпосылки, что есть более и менее фундаментальные логические законы. Но если вторые обоснованы первыми, то как обосновать первые? Любая попытка такого обоснования либо приводила бы к ссылке на специфическую ‘логическую интуицию’, либо предполагала бы, что сферу логических законов регулируют другие, логические же законы, но более высокого уровня.
От этой проблемы не свободны логические системы Фреге и Рассела. Аксиоматический метод построения, положенный ими в основу своих теорий, предполагает, что есть более и менее фундаментальные логические законы. Первые представлены аксиомами, вторые – теоремами. Способ обоснования вторых – доказательство из первых, но как обосновать первые? В рамках предложенной альтернативы Фреге выбирает первый путь, а Рассел – второй. Однако апелляция к ‘логической интуиции’ выводит за рамки формальной логики в сферу созерцания, и «удивительно, что такой строгий мыслитель, как Фреге, принимал степень очевидности в качестве критерия логического предложения» [6.1271]. Что касается Рассела, то удивительно уже то, что логические законы сами должны подчиняться логическим законам, ведь тогда несомненная истинность одних должна выводиться из несомненной истинности других, что само по себе парадоксально. Чем один тип несомненности отличается от другого? «Для каждого ‘типа’ нет своего особого закона противоречия, как полагал Рассел, но достаточно одного, так как ведь он не применяется к самому себе» [6.123]. Всё, что аналитично, должно находиться на одном и том же уровне. И в этом смысле закон непротиворечия обоснован не более, чем другие аналитические истины.
Признаки же, предложенные Витгенштейном, задают однозначный критерий распознавания аналитических предложений, обходя указанные трудности. Все предложения логики находятся на одном и том же уровне, среди них нет более и менее фундаментальных, поскольку «всякая тавтология сама показывает, что она – тавтология» [6.127]. Попытка дать доказательство логического предложения есть следствие фундаментального смешения, отождествляющего тавтологии с действительными предложениями. Относительно действительных предложений мы знаем, что они могут быть истинными и ложными, и их доказательство обусловлено стремлением обосновать одну из этих альтернатив. Не то у логических предложений. Поскольку тавтологии ‘созданы истинными’, каждое предложение логики может быть понято как своё собственное доказательство [6.1265], что и демонстрирует подходящий способ записи. Метод Витгенштейна показывает тавтологичность закона непротиворечия, закона исключённого третьего, да и всех аксиом и производных теорем Шрифта понятий и Principia Mathematica, относящихся собственно к логике, независимо друг от друга. Равноправие этих предложений, как говорится, налицо. Даже если мы и используем термин ‘доказательство’ применительно к логическим предложениям, то его всегда нужно понимать фигурально, способом, отличным от того, когда мы говорим о доказательстве действительных предложений. Доказательство логического предложения не есть его логический вывод из других предложений, поскольку логический вывод есть лишь иной, отличный от тавтологий способ демонстрации внутренних отношений между предложениями. «Доказательство в логике есть только механическое средство облегчить распознавание тавтологии там, где она усложнена» [6.1262]. Это распознавание не апеллирует к содержанию, как с необходимостью происходит в случае доказательства действительных предложений, но ограничивается исключительно символическими правилами [6.126]. Как только нам понятны символические правила знаковой системы, мы всегда можем распознать тавтологию как тавтологию; именно поэтому «в логике не может быть ничего неожиданного» [6.1251]. При надлежащем объяснении логика как таковая не даёт повода к удивлению, в ней есть всё так, как оно есть.
Отталкиваясь от специфики тавтологий, Витгенштейн утверждает: «Логика – не теория, а отражение мира» [6.13]. Она ничего не говорит о содержании мира, но показывает его необходимые черты.
3.4.2. Предложения математики
Разъяснение сущности математики связано у Витгенштейна с пересмотром программы логицизма. Характеристика логических предложений как тавтологий показывает невозможность редукции математики к логике в том смысле, который придавали этой процедуре Фреге и Рассел. Используемые ими определения конкретных чисел, скажем нуля, или допущения типа аксиомы бесконечности, с точки зрения автора ЛФТ, выходят за рамки аналитического знания и в этом отношении серьёзно отличаются от того, что может предоставить логика. Витгенштейн не отрицает теснейшую связь математики с логикой, но идёт не по пути модификации первоначальной программы (т.е. по пути, избранному Расселом, который модифицирует подход Фреге в связи с обнаруженным им парадоксом), он предлагает иное понимание сущности числа и, следовательно, иную интерпретацию математических выражений, использующих это понятие.
Своё понимание числа Витгенштейн вводит в афоризмах 6.01–6.03. Прежде чем перейти к интерпретации этих нескольких фраз, которые ввиду их чрезвычайной краткости редко вызывают чувство полного понимания того, что хотел сказать автор, обратимся к мотивам, по которым вообще требуется дать общее определение числа. Стремление ввести понятие числа объясняется необходимостью зафиксировать общее свойство членов натурального ряда. Фреге, например, даёт определение понятия числа, чтобы на этом основании ввести конкретные числа и объяснить свойства числового ряда. Конкретные числа рассматриваются как совокупность предметов, обладающих общими свойствами, которые и фиксируется в определении. Именно это определение, полагающее число как то, что соответствует классам, находящимся во взаимнооднозначном соответствии, позволяет отнести единицу, двойку, тройку и т.д. к одной и той же рубрике и обосновывает такие утверждения, как: “1 есть число”, “2 есть число” и “3 есть число” и т.п. Определение, построенное таким способом, основано на возможности образования общности предметов, обладающих общими свойствами, которые мы называем числами.
Такой подход не удовлетворяет Витгенштейна. В афоризме 6.031 он пишет: «В математике теория классов совершенно излишняя. Это связано с тем, что общность, употребляемая в математике, не является случайной». Это замечание, видимо, нужно понимать следующим образом. Стремление дать определение понятию ставится в зависимость от возможности образования класса предметов, подпадающих под это понятие. Например, определение понятия ‘человек’ предполагает возможность образования класса людей. Даже если речь идёт о пустом понятии, скажем ‘летающий крокодил’, само по себе оно не исключает возможности образования класса. Элементы класса по предположению должны выполнять соответствующую материальную функцию, выраженную понятием, которое и раскрывается в определении. Однако из самого по себе понятия нельзя заключить, является оно пустым или же нет. Определить, существует ли соответствующая общность, должна реальность. Именно реальность решает, что функция ‘человек (х)’ истинна при некоторых х, а функция ‘летающий крокодил (х)’ ложна при любом х. В этом отношении непустота общности людей и пустота общности летающих крокодилов является случайной. Эти соображения применимы и к фреге-расселовскому определению числа. Введение понятия числа с точки зрения классов предметов, находящихся во взаимнооднозначном соответствии, зависит от существования таких классов. Общность таких классов является случайной; в реальности нет ничего такого, что требовало бы её с необходимостью. Но если бы реальность оказалась другой, фреге-расселовское определение не достигало бы цели, поскольку понятие числа оказалось бы пустым. То же самое касается определения конкретных чисел. Например, определения нуля с точки зрения класса неравных самим себе предметов зависит от действительной пустоты этого класса. В этом смысле общность, соответствующая нулю, также является случайной.
Итак, апелляция к классам, заданным материальными функциями, при определении числа не достигает цели, поскольку все они являются случайными общностями. Но как ввести неслучайную общность? Решению этой проблемы служит вводимое Витгенштейном различие между содержательными понятиями (понятиями в собственном смысле, которые выражаются функциями) и формальными понятиями. Именно первые служат выражением случайных общностей, тогда как вторые, показывая структуру языка, выражают то, без чего обойтись невозможно. Понятию ‘человек’ соответствует случайная общность, формальное понятие ‘предмет’ указывает на необходимую общность, затребованную элементами языковой структуры. Как выражение неслучайной общности слово ‘число’ также должно пониматься как обозначение формального понятия [4.1272] и, как таковое, обладает всеми рассмотренными ранее чертами формальных понятий, а именно: число не выражается материальной функцией, поэтому все выражения типа “1 есть число” или “Существует только один нуль” являются бессмысленными подобно тому, как бессмысленно выражение “Сократ – это предмет”. Как и все формальные понятия, число изображается в логической символике переменной подобно тому, как, например, переменное имя ‘х’, выражая общую черту всех имён, указывает на формальное понятие предмета. Как формальное понятие, число выражает внутренние свойства и отношения, которые обнаруживают себя в функционировании знаков. Теперь остаётся только выяснить, какие именно внутренние свойства и отношения обнаруживает формальное понятие числа и переменной какого вида оно изображается.
Для прояснения характера означенных отношений вновь вернёмся к фреге-расселовскому определению. Натуральные числа упорядочены в ряд, и определения должны объяснить его основные черты. При этом общее определение числа с точки зрения классов, находящихся во взаимнооднозначном соответствии, устанавливает, что может рассматриваться как член натурального ряда, а способ построения определений конкретных чисел должен эксплицировать отношение а следует за b, упорядочивающее этот ряд. Поскольку определение каждого последующего числа строится на основе определения предыдущего, постольку отношение порядка удаётся зафиксировать, сохраняя характеризующие ряд черты, а именно: 1. Натуральный ряд чисел имеет начало, причём единственное. 2. Каждый член натурального ряда имеет последующий член, т.е. ряд чисел бесконечен. 3. Каждый член натурального ряда имеет только один член, непосредственно следующий за ним, и только один член, непосредственно ему предшествующий, и т.д.[200]
Действительно, начало и единственность такого начала заданы способом, которым вводится определение нуля. Наличие последующего члена связано с тем, что на основе предыдущего определения всегда можно построить определение последующих чисел. Единственность непосредственно предшествующего и последующего членов вытекает из того, что определение каждого последующего члена строится непосредственно из определения предшествующего члена и только из него[201]. Однако, несмотря на эвристичность, подобная экспликация черт натурального ряда грешит существенным недостатком. Как было показано выше, она основана на случайных общностях, и поэтому устанавливаемое отношение является содержательным, зависящим от черт действительности. В этом смысле оно ничем не отличается от любого другого ряда, который может быть задан с точки зрения существования случайных общностей. Проясним последнее утверждение примером. Допустим, нам нужно установить отношение порядка на классе людей[202]. Для этого, скажем, мы можем выбрать отношение предок по мужской линии. Возможность экспликации данного отношения будет зависеть от того, как мы дадим общее определение понятия ‘предок по мужской линии’ и на его основании введём понятия ‘отец’, ‘дед по отцу’, ‘прадед по отцу’ и т.д. Очевидно, что возможность данных определений зависит от существования соответствующих им случайных общностей. В противном случае все эти понятия были бы пустыми, а отношение, на экспликацию которого мы претендуем, лишённым смысла. Порядок, установленный на случайной общности, является столь же случайным, как и сама общность. Поэтому натуральный ряд чисел, который зависит от счастливой случайности существования классов, находящихся во взаимнооднозначном соответствии, был бы также случайным. То, как фреге-расселовское определение числа и на его основе определения конкретных чисел эксплицируют отношение порядка на натуральном ряду чисел, вполне аналогично попытке определения отношения порядка на классе людей. Отношение следовать за понимается подобно отношению предок, заданному на классе людей, т.е. как внешнее, содержательное отношение, фиксирующее, может быть, и наиболее общие, но всё же черты реальности.
С точки зрения Витгенштейна, числовой ряд не должен зависеть от случайности. Отношение следовать за должно иметь принципиально иной характер, чем внешние, содержательные отношения между предметами. При экспликации отношений у Фреге и Рассела имеет место то же самое смешение, когда формальное понятие предмета уподобляют содержательному понятию, например понятию человека. Нельзя сказать, что “Сократ – это предмет”, в том смысле, в котором говорят, что “Сократ – это человек”. То, что Сократ – это предмет, показывается использованием ‘Сократ’ в качестве имени, когда говорят, что он является человеком. То же самое имеет место относительно отношения следовать за. Это отношение является внутренним, и в отличие от внешних отношений о нём ничего нельзя сказать (вернее, любая попытка что-то сказать о нём приводила бы к бессмысленным псевдопредложениям), оно показано структурой предложения, которое говорит о внешних отношениях. Так, предложение “а предок b” говорит об определённом внешнем отношении и своей логической формой aRb показывает, что b следует за а.
Если говорить о ряде, то он может быть упорядочен внешним отношением. Примером, если вернуться к отношению предок по мужской линии, может служить соответствующее генеалогическое древо. В этом случае ряд является содержательным и, стало быть, случайным, как случайно всё то, что зависит от общностей, существующих в действительности. Но ряд может быть упорядочен и внутренним отношением. Тогда ряд не является случайным, но предопределён структурой предложений, в которых обнаруживается такое отношение. Ряды, упорядоченные внутренними отношениями, Витгенштейн называет формальными [4.1252]. Примером такого формального ряда может служить следующая последовательность предложений:
“aRb”
“($x):aRx×xRb”
“($x,y):aRx×xRy×yRb”.
Здесь отношение следовать за обнаруживается структурой каждого члена данного ряда; то, что ‘b’ следует за ‘a’ показано отношением, которое фиксирует их логическая форма. Как говорит Витгенштейн, «если b стоит в одном из таких отношений к a, то я называю b следующим за a» [4.1252]. Однако здесь каждое предложение показывает, что ‘b’ следует за ‘a’, но как выразить то, что это является общей чертой всего формального ряда данных предложений? Для ряда, заданного содержательным отношением, это можно сделать, определив, что может выступать членом такого ряда. Скажем, для генеалогического древа достаточно ввести определение понятия ‘предок’. Но для формального ряда этого сделать нельзя, поскольку ‘член этого формального ряда’ является формальным понятием и не может вводиться с точки зрения общего определения [4.1273]. Формальное понятие вводится использованием переменных, которые фиксируют общие черты соответствующих знаков. Например, формальное понятие предмета вводится использованием переменного имени ‘x’, выражающего общие черты имён [4.1272], и уже способ использования этой переменной показывает, является ли ‘a’ именем. Так и формальное понятие ‘общий член формального ряда’ можно выразить только переменной, и уже эта переменная показывает, является ли тот или иной элемент членом данного формального ряда или же нет. «Мы можем определить общий член формального ряда, давая его первый член и общую форму операции, которая образует последующий член из предыдущего предложения» [4.1273]. Для приведённого примера это можно было бы выразить, указав на то, что предложение “aRb” является первым членом формального ряда, и задав операцию, которая вводит опосредующие элементы в каждое последующее предложение. В общем случае, если форму операции записать, скажем, как “О’x”, в качестве первого члена ряда взять ‘a’ и повторным применением операции образовать формальный ряд “a, O’a, O’O’a, O’O’O’a …”, то формальное понятие ‘общий член этого формального ряда’ запишется переменной “[a, x, O’x]” (где a – это первый член ряда, x – произвольный член ряда, а O’x – форма операции, применённая к произвольному члену ряда) [5.2521, 5.2522].
Различие между формальным и содержательным упорядочиванием должно, по Витгенштейну, лежать в основании правильного объяснения числа. Ряд, о котором идёт речь в математике, является формальным: «Числовой ряд упорядочен не внешним, а внутренним отношением» [4.1252]. Основание для введения числа должно предоставить такое упорядочивание, которое не вызывает сомнения ввиду случайности своих элементов. Отношение порядка не может рассматриваться как внешнее, но должно характеризовать внутренние отношения, показанные знаками. Формальный ряд, рассмотренный выше в качестве примера, показывает, какой тип отношений должна подразумевать математика. Однако сам этот ряд, как и ему подобные, не является достаточным основанием для введения числа. Он может служить хорошим примером формального упорядочивания, но он не может предоставить необходимое основание. Действительно, формальный ряд предложений типа “aRb”, “($x):aRx×xRb”, “($x,y):aRx×xRy×yRb” зависит от случайной конструкции элементарных предложений, общую форму которых невозможно дать a priori [5.556]. Но основание для введения числа должен дать такой формальный ряд, который позволяет себя предвидеть исключительно из априорных особенностей конструирования предложений.
Прежде чем перейти к рассмотрению этих особенностей, обратимся к нескольким замечаниям, которые Витгенштейн оставил на полях экземпляра первого издания ЛФТ, принадлежавшего Ф.П.Рамсею. Эти замечания в некоторой степени поясняют мотивы и основные идеи, которые послужили руководящей нитью для построения оригинальной философии числа. На полях напротив афоризма 6.02 Витгенштейн записал: «Начало логики предполагает исчисление, а потому число. Число является фундаментальной идеей исчисления и должно вводиться как таковое», а несколько выше: «Фундаментальная идея математики – это идея исчисления, представленная здесь посредством идеи операции (точки не существует)»[203]. Что же вытекает из этих замечаний? Связь математики с логикой видится Витгенштейну не в том, что основное понятие первой можно выразить в понятиях второй, а в том, что система логики строится на основе некоторой вычислительной процедуры, которая позволяет представить всё содержание логики в систематическом виде. Понятие числа должно отталкиваться от экспликации этой процедуры, которая в рамках самой логики представлена понятием операции. Подобный ход мысли вряд ли можно назвать редукцией. Здесь понятие числа не сводится к логическим понятиям; скорее, оно представляет собой своеобразный способ выражения определённых свойств логических закономерностей. Отсюда вытекает самое главное. Логические закономерности, представленные идеей операции, показывают внутренние свойства знаковой системы, и число есть способ демонстрации этих свойств; т.е. число используется не для того, чтобы сказать о чём-то, но для того, чтобы показать внутренние черты языка, ‘всеобщую и необходимую природу знаков’.
О какой же операции идёт речь? Пример построения формального ряда, не зависящего ни от каких случайностей, даёт нам операция истинности (а именно, рассмотренная ранее операция N), которая вводится уже вместе со знаком элементарного предложения. Именно её наличие предоставляет возможность рассмотрения логики в виде исчисления.
Начнём с того, что с точки зрения приведённых ранее объяснений нетрудно видеть, как строится ряд предложений, где в качестве базиса операции берётся одно элементарное предложение “p”:
“p”
“N(p)” (= “~p” Def.)
“N(N(p),p)” (= “~~p×~p” Def.)
“N(N(N(p),p))” (= “~(~~p×~p)” Def.)
Этот формальный ряд, так же как и приведённый выше, упорядочен внутренним отношением, но свободен от случайной структуры элементарного предложения “p”. Он предоставляет нам все четыре различных возможных функции истинности, построенных из одного предложения, а именно: исходную функцию, функцию, противоречащую исходной, противоречие и тавтологию, т.е. те возможности, которые зафиксированы в таблице 2. Внешний вид знаков данного формального ряда показывает, какой его член является первым, а какой последующим. Ряд начинается с самого предложения “p”; каждое последующее предложение предполагает применение операции N, причём чем дальше член ряда отстоит от исходного, тем большее количество операций N присутствует. То, что “N(p)”, как и остальные члены данного ряда, следуют за “p”, видно из особенностей самого этого ряда. Кроме того, ранее было показано, что, используя операцию N, можно построить формальный ряд предложений с произвольным исходным членом (т.е. где исходным членом было бы множество, состоящее более чем из одного элементарного предложения), например ряд, соответствующий таблице 3. Все ряды предложений, которые предполагает логика как исчисление, построенное с использованием этой операции (а значит, ввиду сводимости любой операции истинности к операции N, с использованием любой операции истинности), являются формальными. Это важно в связи с тем, как вводится формальное понятие ‘член данного формального ряда’. Четырьмя абзацами выше уже цитировался афоризм 4.1273, который говорит о том, как ввести это понятие. Нужно лишь указать первый член формально ряда и дать общую форму операции. Как применяется операция N в каждом конкретном случае, ясно из вышеизложенного. Первый член может быть различным, скажем, состоять из одного предложения или из класса предложений. Но для формального ряда построенного с помощью операции N, всегда можно определить, принадлежит ли ему произвольное предложение. Например, отталкиваясь от исходного члена (p) и способа применения операции, видно, что “N(p)” (= “~p” Def.) принадлежит тому же формальному ряду, что и “p”, а отталкиваясь от исходного члена (p,q) и способа применения той же операции к двум предложениям, видно, что “N(p,q)” (= “~p×~q” Def.) принадлежит тому же формальному ряду, что “p” и “q” и т.д.
![]()
![]()
![]() Самое интересное в этом то, что общее всех таких
формальных рядов выразимо одной переменной, а именно общей формой предложения [ p, x,
N ( x )], представленной
в афоризме 6. Общая форма предложения позволяет предвидеть то, как может быть
построен любой член любого формального ряда с произвольным первоначальным
членом в виде совокупности элементарных предложений [6.001].
Отсюда следует, что в этой общей форме уже присутствует общая форма того, как
одно предложение может быть построено из других, т.е. в нём уже присутствует
общая форма операции. А значит, можно указать, как может быть построен любой
формальный ряд с любым исходным членом. Указание на такой способ построения уже
не содержит никакой случайности и может рассматриваться в качестве общей формы
того, как строится любой формальный ряд, предполагаемый единственно
существованием предложений. Такое указание естественно является переменной. Но
в отличие от общей формы предложения, оно является переменной иного ранга в том
смысле, что оно не указывает на конкретный исходный член формального ряда. Если
общая форма предложения предполагает, что такой первый член должен быть
совокупностью элементарных предложений [6.001], то
общая форма операции указывает лишь на то, что первый член любой формальной
последовательности такого типа должен быть предложением. Но поскольку ‘предложение’ –
это формальное понятие, то задать его можно лишь переменной, каковой является
общая форма предложения. Поэтому базисом общей формы операции истинности
является общая форма предложения.
Самое интересное в этом то, что общее всех таких
формальных рядов выразимо одной переменной, а именно общей формой предложения [ p, x,
N ( x )], представленной
в афоризме 6. Общая форма предложения позволяет предвидеть то, как может быть
построен любой член любого формального ряда с произвольным первоначальным
членом в виде совокупности элементарных предложений [6.001].
Отсюда следует, что в этой общей форме уже присутствует общая форма того, как
одно предложение может быть построено из других, т.е. в нём уже присутствует
общая форма операции. А значит, можно указать, как может быть построен любой
формальный ряд с любым исходным членом. Указание на такой способ построения уже
не содержит никакой случайности и может рассматриваться в качестве общей формы
того, как строится любой формальный ряд, предполагаемый единственно
существованием предложений. Такое указание естественно является переменной. Но
в отличие от общей формы предложения, оно является переменной иного ранга в том
смысле, что оно не указывает на конкретный исходный член формального ряда. Если
общая форма предложения предполагает, что такой первый член должен быть
совокупностью элементарных предложений [6.001], то
общая форма операции указывает лишь на то, что первый член любой формальной
последовательности такого типа должен быть предложением. Но поскольку ‘предложение’ –
это формальное понятие, то задать его можно лишь переменной, каковой является
общая форма предложения. Поэтому базисом общей формы операции истинности
является общая форма предложения.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() Именно в этом смысле следует понимать общую форму
операции, которую Витгенштейн вводит в афоризме 6.01: «Общая форма операции W’(h) есть: [x, N(x)]’ (h) (= [h,x,N(x)]).
Это есть самая общая форма перехода от одного предложения к другому». Здесь “h” является формальным понятием предложения, т.е.
замещает переменную [ p,
x, N ( x )]. Другими словами, знак “h” показывает,
что основанием операции W’ является
предложение. Таким образом, общая форма операции даёт самую общую форму
построения формального ряда. Иначе говоря, посредством общей формы операции
выражается формальное понятие формального ряда.
Именно в этом смысле следует понимать общую форму
операции, которую Витгенштейн вводит в афоризме 6.01: «Общая форма операции W’(h) есть: [x, N(x)]’ (h) (= [h,x,N(x)]).
Это есть самая общая форма перехода от одного предложения к другому». Здесь “h” является формальным понятием предложения, т.е.
замещает переменную [ p,
x, N ( x )]. Другими словами, знак “h” показывает,
что основанием операции W’ является
предложение. Таким образом, общая форма операции даёт самую общую форму
построения формального ряда. Иначе говоря, посредством общей формы операции
выражается формальное понятие формального ряда.
![]() Построение
формального ряда предполагает последовательное применение операции, и это даёт
Витгенштейну основание для введения числа. Операция строит формальный ряд,
применяясь к собственному результату. Построим теперь такой ряд следующим
образом [6.02]: Пусть х является первым членом ряда; членом,
следующим непосредственно за х, будет W’x; членом, следующим непосредственно за W’x, будет W’W’x; членом, следующим непосредственно за W’W’x, будет W’W’W’x и т.д. Первый член данного ряда характеризуется отсутствием операции, а
каждый последующий – применением операции к непосредственному результату своего
предшествующего применения. Примером может служить рассмотренный выше ряд
предложений, начинающийся с “p”. Здесь само предложение “p” характеризуется
отсутствием операции, а каждый последующий член – её применением. Теперь, если
первый член ряда, т.е. отсутствие операции, определить как x=W0’x Def., а результат повторного применения операции к
произвольному непосредственно предшествующему члену как W’Wn’x=Wn+1’x Def.,
то ряд
Построение
формального ряда предполагает последовательное применение операции, и это даёт
Витгенштейну основание для введения числа. Операция строит формальный ряд,
применяясь к собственному результату. Построим теперь такой ряд следующим
образом [6.02]: Пусть х является первым членом ряда; членом,
следующим непосредственно за х, будет W’x; членом, следующим непосредственно за W’x, будет W’W’x; членом, следующим непосредственно за W’W’x, будет W’W’W’x и т.д. Первый член данного ряда характеризуется отсутствием операции, а
каждый последующий – применением операции к непосредственному результату своего
предшествующего применения. Примером может служить рассмотренный выше ряд
предложений, начинающийся с “p”. Здесь само предложение “p” характеризуется
отсутствием операции, а каждый последующий член – её применением. Теперь, если
первый член ряда, т.е. отсутствие операции, определить как x=W0’x Def., а результат повторного применения операции к
произвольному непосредственно предшествующему члену как W’Wn’x=Wn+1’x Def.,
то ряд
х, W’x, W’W’x, W’W’W’x …
запишется так:
W0’x, W0+1’x, W0+1+1’x, W0+1+1+1’x, …
Используя следующие определения: 0+1=1 Def., 0+1+1=2 Def., 0+1+1+1=3 Def. и т.д., этот ряд можно записать так:
W0’x, W1’x, W2’x, W3’x, …
Таким образом, «число есть показатель операции» [6.021] и должно вводиться как то общее, что характеризует эти показатели. Но это общее нельзя выразить содержательным понятием, формальное понятие числа выражается общей формой числа, переменной числа [6.022], показывающей свои возможные значения. Если формальное понятие ‘член формального ряда’, учитывая показатель операции, выразить переменной [W0’x, Wn’x, Wn+1’x], то общая форма целого числа выражается переменной [0, x, x+1]. Эта общая форма показывает, что является членом натурального ряда чисел, и сохраняет все свойства натурального ряда, основывая их исключительно на общих чертах любого формального упорядочивания, не зависящего ни от каких случайностей.
Способ введения числа, предложенный Витгенштейном, весьма отличается от того понимания, которое предлагали Фреге и Рассел. Как показатель операции число не является ни предметом, ни классом предметов. Следовательно, и знаки 0, 1, 2, 3 … не являются обозначениями таких предметов или классов. Цифры есть лишь способ выражения черт знаковой системы, не предполагающие собственного значения. Можно сказать, что у Витгенштейна речь идёт даже не о числах, а исключительно о цифрах. Соответственно, математика понимается как грамматика цифр[204]. Эта грамматика является специфическим выражением закономерных черт знаковой системы, и в этом смысле «математика есть логический метод» [6.2]. Её предложения являются уравнениями, которые, как и предложения логики, ничего не говорят о действительности, а потому являются псевдопредложениями: «Предложение математики не выражает никакой мысли» [6.21]. Если задаться вопросом о том, зачем они нужны, окажется, что, подобно предложениям логики, они служат лишь для того, чтобы из одних предложений, не принадлежащих математике, получать другие предложения, равным образом не принадлежащие математике [6.21]. Тавтология ‘pÉq×p:É:q’, обнаруживая внутренние отношения между предложениями, показывает демонстративность выводов типа следующего:
“Если сахар поместить в воду, то он растворится.
Сахар поместили в воду.
Следовательно, он растворился”.
Уравнение ‘5+2=7’ также обосновывает выводы, например:
“На столе лежало пять яблок.
К ним добавили ещё два.
Следовательно, на столе лежит семь яблок”.
Как в первом, так и во втором случае, связываемые предложения суть действительные предложения; они являются образами фактов. Но ни тавтология, ни уравнение не являются образами. Существенная истинность вторых в противоположность случайной истинности первых обеспечивается чертами знаковой системы. Уравнение, как и тавтология, характеризует логическую форму связываемых предложений. Оно показывает внутренние отношения тех предложений, в которых встречаются цифры, и, соответственно, логическое пространство выраженных в этих предложениях фактов. Отсюда совершенно не случайно вытекает следующее утверждение Витгенштейна: «Логику мира, которую предложения логики показывают в тавтологиях, математика показывает в уравнениях» [6.22].
Правда, здесь следует учесть, что уравнения – это вообще не предложения, даже в том усечённом смысле, в котором предложениями можно назвать тавтологии и противоречия. Предложения логики всё-таки являются результатом применения операций истинности к действительным предложениям и подпадают под общую форму предложения. Уравнения нельзя получить таким способом; они не подпадают под общую форму предложения. Следовательно, их нужно трактовать отличным от тавтологий способом. Если связанные в тавтологию посредством операции действительные предложения взаимно аннулируют своё изобразительное отношение к действительности, оставляя всё логическое пространство другим предложениям, и тем самым обнаруживается их логическая форма, то уравнения характеризуют логическую форму выражений, показывая их взаимозаменимость [6.23]. Знак равенства связывает выражения с одинаковым значением, и в уравнении тождество значений этих двух выражений должно усматриваться исключительно из особенностей их логической формы. Логическая форма – это то, о чём по определению сказать ничего нельзя. Именно поэтому уравнения математики ничего не говорят, они не являются истинными или ложными. Но они показывают, что выражение одной логической формы может быть заменено выражением другой логической формы.
Однако, если мы понимаем эти выражения, то их логическая форма уже известна и, следовательно, уже известно, что они могут быть заменены друг на друга. Это видно из самих этих выражений [6.23]. Взаимозаменимость выражений является характерной чертой их логической формы, которая известна, как только эти выражения поняты. Так, характерной чертой “1+1+1+1” является то, что оно может пониматься как “(1+1)+(1+1)” [6.231]. Без уравнений, стало быть, можно обойтись: «В уравнении существенно то, что оно не необходимо для того, чтобы показать, что оба выражения, связываемые знаком равенства, имеют одинаковое значение, так как это может быть понято из самих этих двух выражений» [6.232]. Потребность в уравнениях, как и потребность в тавтологиях, возникает тогда, когда необходимо систематизировать определённые черты знаковой системы, а именно, те черты, которые позволяют рассматривать выражения с точки зрения тождества их значений [6.2323]. Но тождественность значения двух выражений не может утверждаться (особенно, если утверждение понимается в смысле Фреге как переход от содержания к истинностному значению), поскольку для того, чтобы что-то утверждать об их значении, «я должен знать их значение; а зная эти значения, я знаю, обозначают ли они одно и то же или различное» [6.2322]. Тождественность выражений показана логической формой этих выражений, и оно может усматриваться без обращения к тому, о чём говорят эти выражения [6.2321].
Разумеется, логическая форма самих выражений может быть усложнена. Скажем, в отличие от тождественности значений выражений “1+1+1+1” и “(1+1)+(1+1)”, тождественность значений выражений “5+2” и “7” усматривается не столь непосредственно. Здесь и возникает потребность в доказательстве. Но математическое доказательство, так же как и доказательство логических предложений, существенно отличается от доказательства действительных предложений. Математическое доказательство не доказывает истинность выражений типа “5+2=7”. Так же, как логическое доказательство, позволяющее распознать тавтологию там, где она усложнена, математическое доказательство позволяет распознать уравнение там, где оно усложнено. Здесь не требуется особого созерцания, поскольку необходимое созерцание при решении математических проблем доставляет сам язык [6.233]. Работа с уравнениями, как существо математического метода [6.2341], не требует обращения ни к какой действительности, для этого достаточно понимания числа, которое не выходит за рамки знаковой системы. Работа с уравнениями заключается в том, что от одних уравнений, в которых наблюдение за тождеством значений выражений усложнено, мы переходим к другим уравнениям, где это тождество обнаруживается непосредственно. При математическом доказательстве сложные уравнения заменяются более простыми. «Метод, с помощью которого математика приходит к своим уравнениям, есть метод подстановки» [6.24]. Обоснование уравнений типа “5+2=7” или “2´2=4” можно свести к непосредственной очевидности тождества выражений вида “1+1+1+1” и “(1+1)+(1+1)”. Подобные тождества основаны на представленной выше общей форме числа, вытекающих из неё чертах натурального ряда (например, законов ассоциативности и коммутативности операций сложения и умножения) и определений конкретных цифр, которые являются показателями применения операции [6.241][205].
Специфическая трактовка математических псевдопредложений как уравнений позволяет теперь охарактеризовать связь математики и логики. Начнём с того, что характеристики уравнений вполне аналогичны характеристикам тавтологий[206]. В этом отношении их можно объединить в общий класс псевдопредложений. Далее, то понимание процесса счёта, которое вытекает из особенности применения операций истинности, является необходимым и достаточным основанием математической интуиции. «Счёт не есть эксперимент» [6.2331] в том отношении, что он не обосновывается эмпирическим подтверждением. Формальный ряд предложений, порождающий логику, как основание введения числа позволяет говорить, что «математика есть метод логики» [6.234]. Действительно, форма числа, выраженная переменной и обосновывающая все черты натурального ряда, выводится из особенностей применения операций истинности. И в этом отношении можно сказать, что математика как система есть специфическое расширение логики. Математика есть расширение способов демонстрации свойств знаковой системы, на которых, как и неслучайность тавтологий, базируется неслучайность её уравнений[207].
Остаётся добавить, что хотя математика и вытекает из логических закономерностей, подход Витгенштейна – это, конечно, не логицизм во фреге-расселовском смысле. Это логицизм sui generis, сводящий к одной рубрике всё то, что вытекает из ‘всеобщей и необходимой природы знаков’.
3.4.3. Предложения естествознания
Рассмотрение естествознания Витгенштейн открывает следующим утверждением: «Исследование логики означает исследование всей закономерности. А вне логики всё случайно» [6.3]. Первая часть этого утверждения вполне объяснима с точки зрения общей цели ЛФТ, которая ограничена исследованием ‘всеобщей и необходимой природы знаков’. Но вторая часть если и не вызывает недоумение, то всё же заставляет поставить ряд вопросов. Господствующий взгляд на необходимость всегда стремился противопоставить логическую закономерность закономерностям природы, на экспликацию которых претендует естествознание. В рамках самого естествознания находят место так называемые законы науки, истинность которых считается необходимой. Противопоставление двух типов необходимости закрепляется, например, у Канта в противопоставлении аналитических суждений и суждений априорно-синтетических. Необходимая истинность вторых имеет иное основание, чем истинность первых. В частности, она требует выхода за рамки логического и обращения к опыту. Вот здесь и возникает проблема. Если ограничить всякую закономерность логической необходимостью, т.е. отвергнуть априорно-синтетическую истинность естественнонаучных законов, то либо необходимо вернуться к скептицизму типа скептицизма Юма, считавшего все естественнонаучные законы случайными обобщениями опыта, либо свести то, что считается природной закономерностью, к необходимым чертам знаковой системы. Из этой альтернативы Витгенштейн выбирает второй вариант.
Но следует сразу оговориться, что ход мысли, представленный в ЛФТ, отличается от других попыток использовать логические закономерности для обоснования естествознания. Под другими попытками здесь понимается тот раздел традиционной логики, который усилиями английского эмпиризма (в частности, так называемые методы научной индукции Бэкона-Милля) получил название индуктивной логики. Всё дело в том, что принцип индукции является содержательным и не удовлетворяет предложенному Витгенштейном пониманию логического: «Так называемый закон индукции ни в коем случае не может быть логическим законом, так как очевидно, что он является осмысленным предложением. – И поэтому также он не может быть априорным законом» [6.31]. Принцип индукции допускает осмысленное отрицание, а потому выходит за рамки логической закономерности, так как является действительным предложением, столь же случайным, как и все другие осмысленные предложения. С точки зрения Витгенштейна, «процесс индукции состоит в том, что мы принимаем простейший закон, согласующийся с нашим опытом. Но этот процесс имеет не логическое, а только психологическое основание» [6.363, 6.3631]. Однако вера в то, что в действительности наступает простейший случай, не имеет никакого логического основания. Необходимость же, обнаруживаемая естествознанием, должна найти место во ‘всеобщей и необходимой природе знаков’. Здесь, как и в случае с математикой, внутренняя телеология языка, устанавливая границу выражения мысли, должна показать, ‘о чём может быть сказано ясно’.
Указание на то, что может быть сказано ясно, здесь использовано не случайно. В отличие от предложений логики и математики, которые являются псевдопредложениями (т.е. хотя и показывающими, но ничего не говорящими выражениями), предложения естествознания нечто говорят [6.53], а потому их объяснение должно быть принципиально иным. Именно предложения, относящиеся к компетенции естествознания, являются действительными предложениями. Однако когда Витгенштейн говорит о логической закономерности, он имеет в виду то, что не может быть высказано знаковой системой. Логическая закономерность проявлена самими знаками, она относится к уровню показанного. Действительно, необходимость логических предложений, а равно и всей математики, суть то, что не может быть высказано. Стало быть, если в естествознании обнаруживается закономерность, она, как логическая закономерность, также не может быть высказана, но должна быть показана, даже если предложения естествознания нечто говорят. В рамках логико-онтологических представлений ЛФТ высказано может быть лишь случайное, необходимое же может быть только показано, поэтому всякая закономерность, обнаруживаемая естествознанием, должна найти своё априорное основание в рамках того, что демонстрируется самой знаковой системой. Другими словами, в естествознании знаковая система говорит нечто случайное и показывает закономерность необходимого. Здесь и возникает вопрос, каким образом случайная истинность действительных предложений может найти априорное основание в знаковой системе?
О случайности высказанного говорит афоризм 4.11, в котором Витгенштейн впервые упоминает естествознание: «Совокупность всех истинных предложений есть всё естествознание (или совокупность всех естественных наук)». Предложения естествознания, в отличие от предложений логики и математики, являются действительными предложениями, а значит, как действительные предложения они не только являются истинными, но также способны быть ложными. Отталкиваясь от общего определения предложения, следует сказать, что предложения естествознания являются образами фактов. Но поскольку «нет образа истинного a priori» [2.225], постольку предложения естествознания не являются априорными истинами. Их истинность является случайной, и всё, что мы обнаруживаем как собственное содержание естествознания, определяется соответствием образа и действительности. Более того, согласно общей точке зрения ЛФТ, всякое изобразительное отношение сводится к отображению состояния дел (т.е. элементарного факта) элементарным предложением. Поэтому, когда Витгенштейн говорит, что совокупность истинных предложений есть всё естествознание, он в конечном счёте имеет в виду элементарные предложения. Но независимость элементарных предложений друг от друга свидетельствует о том, что всякая истина естествознания в результате должна иметь собственный источник. В этом случае деятельность естествоиспытателя сводится к деятельности фактографа, бесстрастно описывающего состояние дел.
Здесь следует задать вопрос, исчерпывает ли такое описание строение научной теории? Отнюдь! Любая естественнонаучная теория предполагает фактографию. Но всякая теория именно как теория выходит за рамки описания фактов; она предполагает то, что принято называть теоретическим обобщением. В содержание научной теории включается не только и не просто описание фактов, но прежде всего законы, которые рассматриваются как объяснения подобных описаний. Например, в механике как теоретической дисциплине речь идёт не просто о взаимодействии определённого тела с другим определённым телом, но об общем законе, с точки зрения которого можно описать всякое возможное механическое взаимодействие любых возможных тел. Кроме того, в естествознании имеют место общие принципы, за рамки которых не может выйти никакое описание. К таковым, например, относится закон причинности, т.е. положение о том, что всякое событие имеет причину. Эти компоненты очевидно нельзя уместить в рамки фактографии. Наоборот, естествознание претендует на то, что они имеют необходимую природу. Но как объяснить природу этой необходимости? Апелляция к закону индукции, как указывалось двумя абзацами выше, не правомочна. Из случайных описаний можно получить только случайные обобщения. Априорный синтез, на который ссылается Кант, также не имеет логического характера, а потому выходит за рамки того, что демонстрируется знаковой системой.
Более того, онтология ЛФТ, основанная на независимости состояний дел и показанная независимостью элементарных предложений, обессмысливает поиск закономерностей, которые выходили бы за рамки логики. Из существования одного состояния дел невозможно вывести существование другого состояния дел, поскольку логика не может оправдать подобный переход [5.136], а никакого другого перехода не предусмотрено. Например, «события будущего нельзя вывести из событий настоящего» [5.1361], поскольку всякий вывод основывается только на операциях истинности, предусмотренных логической формой предложения, а переход от настоящего к будущему таковым не является. Витгенштейн даже определяет суеверие как веру в причинную связь настоящего и будущего [5.1361]. В этом его взгляды вполне согласуются с точкой зрения Д.Юма. Суеверием, к примеру, является то, что завтра взойдёт солнце, поскольку среди событий настоящего нет ничего такого, что с необходимостью подтверждало бы эту гипотезу [6.36311]. «Не существует необходимости, по которой одно должно произойти потому, что произошло другое. Имеется только логическая необходимость» [6.37]. Вера в причинную связь, которая лежит в основании современного естествознания, является лишь иллюзией [6.371]. А иллюзия не может претендовать на объяснение природных явлений. Эта иллюзия, т.е. вера в неприкосновенность естественных законов, сродни представлениям древних о неотвратимости божественной воли или судьбы [6.372]. Но в отличие от современного естествознания, чья ссылка на законы природы представляет дело так, как будто бы всё объяснено, древние не считали ссылку на судьбу универсальным объяснением. Ссылка на судьбу ставит предел реализации человеческих усилий, но не претендует на объяснение того, почему эти усилия должны быть ограничены.
Попытка предугадать то, что произойдёт, основана на нашем желании, скажем, чтобы завтра взошло солнце. Именно на этом базируется закон индукции [6.3631]. Но «мир не зависит от моей воли» [6.373]. Даже, если и случается так, как мы хотим, – это лишь ‘милость судьбы’, поскольку «нет никакой логической связи между волей и миром, которая гарантировала бы это» [6.374]. Тем не менее естествознание не ограничивается описанием состояний дел. И если практика естественных наук претендует на установление закономерностей, то последние должны быть обоснованы.
Начнём с трактовки общих принципов естествознания. В афоризме 6.32 Витгенштейн говорит: «Закон причинности – не закон, а форма закона». Это означает, что этот принцип вовсе не является предложением. Он не может быть истинным или ложным, но представляет собой прообраз возможных фактов, в соответствии с которым строятся предложения естествознания. Как прообраз «“закон причинности” – это родовое имя» [6.321], т.е. имя класса всех тех предложений, которые имеют логическую форму данного принципа. Априорная достоверность этого принципа основана на знании логической формы возможных предложений [6.33], показанной знаковой системой, и вытекает из возможности конструирования предложений определённой формы, которая не выходит за рамки знаковой системы и не требует обращения к опыту [6.3211]. Априоризм общих принципов базируется здесь на предвидении того, что мы конструируем сами [5.556]. То же самое относится и к другим общим принципам естествознания: «Все такие предложения, как закон основания, непрерывности в природе, наименьшей затраты в природе и т.д. – все они представляют априорные умозрения возможных форм предложений науки» [6.34].
Посредством общих принципов описание мира приводится к единой форме [6.341]. Как это осуществляется, Витгенштейн поясняет при помощи аналогии. Представим себе белую поверхность, покрытую чёрными пятнами. Описание этой поверхности можно унифицировать, используя наложенную на неё сетку, состоящую из ячеек определённой конфигурации. Наложив сетку на поверхность, можно затем для каждой ячейки указать, какой именно цвет, белый или чёрный, она имеет. Описание можно сделать сколь угодно точным при помощи более мелкой сетки. Создавая подобное описание, необходимо только задать конфигурацию и размер ячеек. Задав конфигурацию и размер, можно затем, отталкиваясь от исходных ячеек, сконструировать всю сеть. Ячейки, например, могут быть четырёхугольными и иметь чётко определённый размер. Однако сетка с четырёхугольными ячейками даёт, конечно, произвольную унификацию, поскольку ничто не мешает применению сетки с треугольными или пятиугольными ячейками, а равно и сетки с комбинациями ячеек разной конфигурации и различного размера. Различным сеткам будут соответствовать различные системы описания поверхности. Однако вот что не произвольно. Для того, чтобы создать описание поверхности, необходимо, чтобы сеть, во-первых, была создана из ячеек и, во-вторых, чтобы были заданы конфигурация и размер ячеек. Указание на наличие ячеек задаёт общий принцип построения всякой сети, фиксация конфигурации и размера определяет параметры конкретного описания. Здесь общий принцип построения сети говорит о том, что поверхность может быть описана, а конфигурация и размер ячеек показывают, каким именно способом это можно осуществить.
Данную аналогию Витгенштейн использует для объяснения того, как действует механика; правда, её несложно соотнести со всякой областью естествознания. Механика унифицирует описание мира с точки зрения механического взаимодействия. Одним из определяющих здесь является принцип причинности, который задаёт форму любого описания. Если, к примеру, принцип причинности выражался бы формой ‘yx’, то предложения механики должны были образовывать класс предложений, соответствующих этой форме, скажем, ‘(y,x)yx’, ‘(x)fx’, ‘fa’ и т.п. Однако принцип причинности, как и другие общие принципы, устанавливает здесь только общую форму возможных предложений. Возвращаясь к аналогии с сеткой, он говорит только о том, что должны быть ячейки, но он не говорит о том, что эти ячейки должны иметь определённую конфигурацию и размер. Конфигурация и размер ячеек должны быть заданы особо. Ньютоновская механика, например, приводит описание мира к единой форме, руководствуясь общими принципами, но она имеет в виду конкретную реализацию этих принципов в системе основных законов, от которых отталкивается. Другая система механики, отталкиваясь от тех же самых принципов, может предложить иную систему исходных положений, которые не менее эффективно будут служить основанием построения нового описания. Конкретизация принципа причинности в этих случаях будет фиксироваться особо, подобно тому, как особо фиксируются форма и размер ячеек сети. И если форма и размер ячеек определяют, как должна строиться вся остальная сеть, то конкретизация исходных предложений, построенных в соответствии с общими принципами, должна устанавливать, как именно строится описание мира. В основании такого описания могут лежать предложения вида ‘(y,x)yx’; это зависит от определения формы и размера сети. Построение самого описание регулируется исключительно логическими закономерностями, связанными с процедурой логического вывода. И возможность использования в качестве исходных тех или иных предложений регулируется только эффективностью получения из них других предложений.
Основания описания, т.е. исходные предложения, образуют то, что Витгенштейн называет механическими аксиомами [6.341]. Сами аксиомы есть результат конвенции. Всякая теория сама останавливает свой выбор на ячейках определённой конфигурации и размера. Эти аксиомы, как говорит Витгенштейн, ‘закладывают кирпичи в фундамент науки’. Определяя конфигурацию и размер ячеек, мы тем самым говорим, что сеть должна быть построена определённым образом. Также и механические аксиомы говорят, что здание механики должно быть построено из ‘кирпичей определённой формы’: «Механика определяет форму описания мира, говоря: все предложения в описании мира должны быть получены данным способом из некоторого числа данных предложений – механических аксиом» [6.341]. И если естественнонаучная теория представляет собой структуру определённой формы, то наличие формы здесь определяет общая форма построения возможных предложений науки, а конкретную форму строения теории определяет система аксиом, которая задаёт то, что нужно рассматривать, как элементы данной структуры. Система аксиом предопределяет и то, что может рассматриваться как их следствия согласно правилам логического вывода.
‘Кирпичи определённой формы’, или, если угодно, ‘ячейки сети различной конфигурации’, затребованные общими принципами, можно отождествить с тем, что обычно рассматривается как законы конкретных естественных наук, скажем механики. Эти предложения построены в соответствии с логической формой, которую предоставляют нам общие принципы. Возвращаясь к вопросу о строении естественнонаучной теории, можно сказать, что именно они прежде всего претендуют на статус теоретических обобщений. Однако то, как вводит их Витгенштейн, показывает, что они не выводятся из описаний отдельных фактов. В системе естествознания они находят место как то, что формулируется в виде предложений согласно априорно заданной форме. В этом отношении они не являются следствием принципа индукции, но конструируются столь же априорно, как и общие принципы, в соответствии с которыми они построены.
Итак, априорное основание случайного содержания естествознания обнаружено в знаковой системе. Но возникает вопрос, как это содержание, которое, как указывалось выше, сводимо к элементарным предложениям, являющимся образами состояния дел, связано с этими априорными основаниями? Ответить на этот вопрос, отталкиваясь от понимания логического следования, зафиксированного пониманием общности и общей формы предложения, совсем не сложно. Каждое элементарное предложение есть логическое следствие сформулированных согласно общим принципам предложений естествознания. Выводы подобного рода всегда можно выразить тавтологией, например вида ‘(x)fxÉfa’, которая позволяет переходить от более общего к менее общему вплоть до полной конкретности. Полная конкретность достигается тогда, когда от законов мы переходим к фактографии. И главное в том, что этот переход подчинён логической закономерности. Как образно выражается Витгенштейн, «механика есть попытка построить по единому плану все истинные предложения, в которых мы нуждаемся для описания мира» [6.343]. Для построения такого плана мы вначале задаём общие принципы, затем устанавливаем рубрики и, наконец, подводим под рубрики их содержание.
Отсюда строение естествознания определяется тремя компонентами: во-первых, общие принципы естествознания, которые являются формой возможных предложений науки; во-вторых, предложения, которые сконфигурированы соответственно данным принципам и которые лежат в основании научной теории; в-третьих, те случайные предложения, которые, согласно общим принципам, рассматриваются как содержание естествознания[208]. Если, например, взять механику, то она, во-первых, отталкивается от общих принципов; во-вторых, формулирует ряд законов (в виде математического выражения данных принципов); в-третьих, формулирует истинные предложения, которые подпадают под эти принципы и описывают факты мира. Два первых компонента науки составляют теоретическое естествознание, а третий компонент – суть то, что обычно относят к эмпирическому естествознанию.
Объяснение принципам естествознания, которое даёт Витгенштейн, действительно показывает, что наука не выходит за рамки логической необходимости. Содержание естествознания не является априорным, но априорной является форма, в которой выражено это содержание. Общие принципы естествознания говорят о форме предложений науки, но не о мире; они «имеют дело с сеткой, но не с тем, что она описывает» [6.35] [209].
Тем не менее через изобразительное отношение «всем своим логическим аппаратом физические законы всё же говорят о предметах мира» [6.3431]. Хотя о мире ничего не говорит то, что он может быть описан Ньютоновой механикой (поскольку сетка ничего не говорит о той картине, для описания которой она предназначена), взаимоотношение логики и механики проявлено, например, в том, что мир может быть описан Ньютоновой механикой, как это фактически имеет место [6.342]. О мире говорит также и то, что одной механикой он может описываться проще, чем другой. «То, что образ, каким бы он ни был, может описываться сеткой заданной формы, ничего не говорит об образе. (Ибо это имеет силу для каждого образа этого рода.) Но образ характеризует то, что его можно описать определённой сеткой определённой частоты» [6.342].
Однако то, что в логическом аппарате механики характеризует мир, не может быть сказано. Предложения естествознания не говорят о том, что они описывают мир так, как это фактически имеет место. Они не говорят также и о том, что их описание является более простым, чем какое-то иное описание. Всё это относится к уровню показанного знаковой системой. Сетка показывает, а не говорит, как именно она описывает, так и предложения механики говорят о фактах и своей логической формой показывают, как описывается мир. Логическая необходимость, обнаруживаемая в естествознании, как и всякая логическая необходимость, не может быть высказана знаковой системой, но обнаруживает себя в функционировании знаков. Как говорит Витгенштейн, «если бы был дан закон причинности, то он бы гласил: ‘есть естественные законы’. Но, конечно, это не может быть сказано; это показывает себя» [6.36]. Наличие естественных законов обнаруживается формой предложений естествознания, когда механика ‘строит их по единому плану’. Этим и только этим исчерпывается априоризм естественных наук.
Последнее утверждение, очевидно, приходит в противоречие с теми обоснованиями естественнонаучных закономерностей, которые вслед за Кантом пытаются найти источник природной необходимости в априорных формах созерцания пространства и времени. Поскольку, с точки зрения Витгенштейна, закономерные связи можно только ‘мыслить’, выражая в знаковой системе, но не созерцать [6.361], постольку всё то, что касается ‘чистого’ восприятия, посредством которого устанавливается связь мыслительных форм и их содержательного наполнения, также должно найти основание в рамках знаковой системы. То, каким образом априорное созерцание пространства и времени трансформируется в необходимые черты знаковой системы, Витгенштейн иллюстрирует несколькими примерами. Возьмём время. Принципиальная установка ЛФТ связана с тем, что чистое созерцание времени невозможно: «Ни один процесс мы не можем сравнить с ‘течением времени’ – последнего не существует» [6.3611]. Можно сравнить только один процесс с другим. Таковым, например, может выступать ход хронометра. Но в этом случае оба процесса (т.е. тот, который сравнивается, и тот, с которым сравнивается) являются фактами, о которых может быть высказано действительное предложение. Таким образом, сравнение основывается не на форме созерцания, но на логической форме фактов. Время есть форма предметов [2.0251], т.е. форма вхождения последних в факт. Поэтому если имеет смысл высказываться о единообразных временных процессах, то это затрагивает лишь логическую форму соответствующих описаний. Так, например, описание хода хронометра задаёт логическую форму описания возможных временных процессов. Поэтому время является характеристикой логической формы и обнаруживается как грамматическая характеристика языковых выражений, описывающих соответствующие события[210].
Сказанное о времени равным образом относится и к пространству. Пространство также является формой предметов [2.0251] и обнаруживается как грамматическая характеристика соответствующих описаний. Для иллюстрации своей точки зрения Витгенштейн обращается к кантовской проблеме правой и левой руки [6.36111]. В §13 Пролегомен ко всякой будущей метафизике Кант утверждает, что невозможность совпадения кистей правой и левой руки при наложении (как и любых других равных, но не совпадающих предметов) можно объяснить, только обращаясь к созерцанию. Рассудок сам по себе не может объяснить неконгруэнтность двойников, поскольку в понятии ‘кисть руки’ нет ничего такого, что позволяло бы различить кисти на правую и левую. Основание для различия даёт чистое созерцание пространства, которое лежит в основании априорно синтетической истинности суждения о невозможности совпадения неконгруентных двойников. Возражая на это, Витгенштейн утверждает, что невозможность в данном случае зависит от избранной формы описания. Если, например, ограничиться описанием одномерного пространства, то кантовская проблема обнаруживается уже для заданных на линии фигур, как представлено на рисунке:
А В
Фигуры ‘A’ и ‘B’ не могут совпасть при наложении, если не выходить из одномерного пространства. Но ничего не мешает их совпадению в двумерном пространстве. Зависит ли здесь возможность или невозможность совпадения от созерцания? Очевидно, нет. Она зависит только от избранной формы описания. Логическая форма соответствующих фактов включает пространственные характеристики (одномерность или двумерность пространства), которые отображены в избранных способах выражения. Эти же соображения касаются проблемы несовпадения кистей правой и левой руки. Кант основывает априорную невозможность на созерцании трёхмерного пространства. В таком пространстве проблема с несовпадением фигур ‘A’ и ‘B’ не возникает. Но трёхмерность воспринимаемого нами пространства также является лишь случайной. Она не несёт в себе логической необходимости. Как говорит Витгенштейн, «правую перчатку можно было бы надеть на левую руку, если бы её можно было повернуть в четырёхмерном пространстве» [6.36111]. В описании, предполагающем четырёхмерное пространство, кантовская проблема не возникает. Таким образом, пространство также является чертой логической формы и не требует обращения к опыту. Витгенштейн, правда, не говорит, как конкретно в описании задаётся пространственная характеристика. Видимо, она принимается вместе с логической формой, задающей естественные закономерности. Так, классическая механика Ньютона предполагает евклидово пространство, которое при желании можно выразить соответствующими аксиомами, являющимися, как и аксиомы механики, характеристиками формы описания.
Итак, пространство и время не являются априорными формами созерцания. Они характеризуют логическую форму. Возвращаясь к аналогии с сеткой, можно сказать, что они говорят о сетке, но не о том, что она описывает. Пространство и время суть внутренние черты законов, имеющих ‘причинностную форму’. А значит, априорность пространства и времени связана не с чистым созерцанием, но с логической формой фактов, обнаруживаемой описанием. За рамки пространства и времени нельзя выйти не потому, что они являются универсальными формами организации опыта, но потому, что нельзя создать описания, которое выходило бы за рамки формы, заданной законом причинности [6.362]. А закон причинности предполагает пространство и время в качестве необходимых внутренних черт логической формы естественнонаучных законов.
Внутренние черты знаковой системы определяют не только то, что считается естественной необходимостью, но и то, что считается естественной невозможностью: «Как существует только логическая необходимость, так существует только логическая невозможность» [6.375]. Это утверждение особенно важно в связи с тем, что невозможность часто основывают на созерцании. Например, из созерцания пытаются вывести невозможность для двух цветов окрашивать одну и ту же поверхность. Витгенштейн же сводит эту невозможность к логической невозможности. Цветность, как время и пространство, является формой предметов [2.0251], т.е. является внутренней чертой логической формы. Поэтому дело не в том, можно ли созерцать поверхность, в которой совмещены разные цвета, а в том, как вводится возможность предмета входить в определённый факт. В этом случае противоречивость, например, утверждений ‘A есть красное’ и ‘А есть зелёное’ основана не на созерцании, а на том, как вводится ‘A’. Возможность вхождения ‘A’ в факт как раз и будет задавать противоречивость тех утверждений, где одна форма вхождения противоречит другой. В физике, например, это противоречие можно изобразить так: «Частица не может в одно и то же время обладать двумя скоростями, то есть она не может быть в двух местах в одно и то же время, то есть частицы в разных местах в одно и то же время не могут быть тождественными» [6.3751]. Здесь то, как вводятся частицы, указывает на логическую невозможность совмещения определённых фактов. Точно так же любое другое описание цвета предполагает противоречивость тех описаний, где вхождения одного и того же предмета в факт предполагает совмещение несовместимых описаний, чья несовместимость предопределена их логической формой: «Для двух цветов невозможно находиться одновременно в одном и том же месте в поле зрения, и именно логически невозможно, так как это исключается логической структурой цвета» [6.3751]. То есть способ введения цветности как формы предметов предполагает противоречивость любого описания, где различные цвета были бы совмещены в одной и той же точке. В этом случае невозможность опять-таки относится к форме описания, т.е. к сети, а не к тому, что описывается. Конечно, в тексте ЛФТ Витгенштейн при описании невозможности ограничивается примером с цветом, но этот пример нетрудно распространить на любую невозможность подобного рода.
3.5. Этика: Деконцептуализация практического
Приступая к этике, следует вспомнить, что именно она в цитируемом выше при общей характеристике проекта письме к Фиккеру характеризуется как то, что выразить невозможно. Однако хотя в этом письме Витгенштейн говорит о части, ‘которую он не написал’, указания на неё содержатся в последних афоризмах ЛФТ. Это указание непропорционально мало в сравнении с основными разделами. Но, по мнению Витгенштейна, именно эта часть “является самой главной”. По сути говоря, методологический принцип, обозначенный нами как ‘автономия логики’, можно было бы назвать ‘автономией этики’, правда не в кантовском смысле[211]. Демаркационная линия, которую проводят и логика, и этика, определяется как граница между выразимым и невыразимым. В связи с этим ставить границу невыразимому, указывая на то, что можно представить в языке или наоборот, роли не играет. В любом случае одно предполагает другое. Различие здесь можно было бы охарактеризовать как различие катафатического и апофатического подходов. Однако Витгенштейн отдаёт предпочтение логике, поскольку, хотя она и не выразима в языке, она всё-таки показана ‘всеобщей и необходимой природой знаков’ как граница, за которую не может выйти описание. Этику в этом смысле невозможно не только выразить, но и показать. Своеобразие этического указывается только косвенно, когда в знаковой системе устанавливается граница, которую превзойти невозможно. Поэтому при рассмотрении этического Витгенштейн не ставит вопросы, аналогичные вопросам предыдущего раздела, типа “Что представляют собой предложения этики?” [212]. Скорее его интересует вопрос: “Почему предложения этики невозможны?”
Концепция этического реализуется последовательным развитием трёх взаимосвязанных идей: солипсизм, абсолютные ценности, мистическое. Солипсизм вводит в философию раннего Витгенштейна понятие субъекта, о котором в ЛФТ до этого не упоминается, поскольку решение всех вопросов ограничивается рамками особенностей знаков, в нём не нуждающихся, но без которого невозможно рассмотрение этики, поскольку субъект является её основной предпосылкой. Абсолютные ценности уточняют понятие субъекта, рассматривая его как носителя добра и зла. Наконец, понимание мистического демонстрирует окончательную невозможность выражения этических ценностей и, следовательно, невозможность этики как науки.
Несмотря на тесную взаимосвязь этих трёх идей, мы начинаем с солипсизма. Это диктуется следующими соображениями: во-первых, солипсизм, поскольку именно с помощью этой позиции вводится понятие субъекта, есть необходимая пропедевтика к этике; во-вторых, солипсизм, пожалуй, последняя концепция ЛФТ, которой можно придать видимость рациональной экспликации; в-третьих, все следствия, которые вытекают из этой концепции, остаются в сфере догадок и могут претендовать лишь на гипотетическую конструкцию, подкреплённую косвенными аргументами.
3.5.1. Солипсизм
Рассмотренные выше темы отличаются одной важной особенностью, весьма не специфичной для западноевропейской философии. Решая вопросы, традиционно относимые к эпистемологии, Витгенштейн никогда не обращается к понятию субъекта. Более того, когда он говорит, что «весь опыт есть мир и не нуждается в субъекте» (Д, С.111(14)), возникает впечатление, что в рамках ЛФТ субъекту места нет вообще. Действительно, субъект, привлекаемый теорией познания для решения определённых вопросов (скажем, связи предложения с действительностью или объяснения необходимой природы отдельных типов предложений), Витгенштейну не нужен. Основное свойство предложений и характер логической формы решают эти вопросы без всякого обращения к субъекту. В этом как раз и проявляется представление об автономии логики, независимой ни от каких предпосылок. Однако в ЛФТ предназначение субъекту (а вместе с этим и сам субъект) находится, и, стоит добавить, очень важное предназначение. Правда, субъект в этом случае понимается крайне своеобразно. И хотя аналогии в традиции можно указать, они не идут далее общих замечаний, поскольку и здесь Витгенштейн стремится найти субъекту основание в языке, проводя важное для его концепции в целом различие между сказанным и показанным.
Начнём с вопроса о том, в каком смысле в философии вообще можно говорить о субъекте. Если обратиться к описанию мира, то в этом отношении нас постигнет неудача. О такой неудаче говорит сам Витгенштейн: «Если я пишу книгу “Мир, как я его нахожу”, в ней должно быть также сообщено о моём теле и сказано, какие члены подчиняются моей воле и какие – нет и т.д. Это есть собственно метод изоляции субъекта, или, скорее, показа, что в некотором важном смысле субъекта нет, т.е. о нём одном не может идти речь в этой книге» [5.631]. Всё, что обнаруживается как содержание мира, не имеет отношения к субъекту в философском смысле. Предложения, описывающие мир, являются случайными, поскольку, как следует из онтологии ЛФТ, «никакая часть нашего опыта не является также априорной» [5.634]. Однако философия, как правило, говорит о Я как об априорной достоверности. Метафизический субъект классической философии противостоит человеческому телу или человеческой душе [5.641]. Смысл афоризма 5.631 в редукции Я в физиологическом и психологическом смысле к философскому Я, и в этом ход мысли Витгенштейна соответствует, в частности, рассуждениям А.Шопенгауэра (а стало быть, и Канта), со взглядами которого он был знаком. У Шопенгауэра отказ от физиологического и психологического Я как предпосылки опыта служит обоснованием перехода к абсолютной достоверности трансцендентального субъекта, рассматриваемого как априорный полюс, который не обнаруживается в мире, но противостоит его содержанию[213]. Так же и для Витгенштейна невозможность описания Я свидетельствует о том, что «мыслящего, представляющего субъекта нет» [5.631], как его понимает ‘поверхностная психология’. В Дневниках он утверждает: «Физиологическая жизнь – это конечно не “жизнь”. Не является таковой и психологическая жизнь. Жизнь – это мир» (Д, С.99(4)).
Для иллюстрации невозможности познающего субъекта в ЛФТ используется аналогия с глазом и полем зрения. «Где в мире можно заметить метафизический субъект?», – задаётся вопросом Витгенштейн. И отвечает: «Ты говоришь, что здесь дело обстоит точно так же, как с глазом и полем зрения. Но в действительности ты не видишь глаза. И ни из чего в поле зрения нельзя заключить, что оно видится глазом» [5.633]. В самом зрительном поле нельзя обнаружить то, что его видит, поскольку зрительное поле не включает такого элемента. Глаз не является элементом зрительного поля [5.6331]; но в поле зрения нет не только глаза, в нём нет ничего, с необходимостью свидетельствующего, что оно видится глазом. Случайность содержания зрительного поля указывает на то, что «всё, что мы видим, могло бы быть и другим» [5.634].
Дело к тому же обстоит не так, что глаз и его поле зрения дополняют друг друга до единого целого. Зрительное поле не строится из глаза и из того, что видится глазом. Иначе получалась бы странная картина, требующая объединить глаз и то, что он видит, в некоторое единство и заставляющая ввести то, что служит основанием такого объединения. Но что это было бы за основание? Явно, оно не являлось бы глазом. Но чем? Это лишь возрождает проблему на новом уровне. Поэтому глаз не является дополнением зрительного поля, а зрительное поле не является дополнением глаза.
То же самое касается и субъекта. Субъект не помещён в мир, как глаз не помещён в поле зрения. Нигде в мире нельзя обнаружить такой элемент, как субъект. Попытка говорить о мыслящем, представляющем субъекте основана на том же самом смешении, которое лежит в основании различения глаза и того, что им видится. Элементы зрительного поля не дают этого различия. Так и элементы мира не дают различия субъекта и объекта. В противном случае необходимо было бы говорить о предзаданном порядке, обусловленном выделенными элементами (Я и то, что ему противостоит). Но «нет никакого априорного порядка вещей» [5.634]. Никакие элементы нашего опыта не дают дихотомии ‘субъект–объект’. С точки зрения Витгенштейна, субъект и объект не являются элементами чего-то более общего, они не дополняют друг друга до некоторого третьего[214].
Что же тогда остаётся, если Я не является частью мира и не противостоит миру? «Я есть мой мир», – отвечает Витгенштейн [5.63]. Анализ приводит к тому, что Я как особая выделенная позиция исчезает. Позиционируется мир, где Я выступает лишь предпосылкой, о которой можно судить по результатам такого позиционирования[215]. Возвращаясь к аналогии с глазом, можно сказать, что и глаз не является элементом зрительного поля и не противостоит ему, но в некотором смысле есть само зрительное поле. Наличие глаза демонстрируется структурой зрительного поля, поскольку «ясно, что моё зрительное пространство строится в длину иначе, чем в ширину» (Д, С.108(5)). Уникальность этой структуры свидетельствует о том, что это – моё зрительное поле. Хотя я и не замечаю себя, тем не менее моё зрительное поле имеет перспективу, оно центрировано. Но для освидетельствования такого центрирования не нужно указывать на глаз как особый выделенный элемент. Это показано самим зрительным полем. Нет необходимости занимать какую-то метапозицию (тем более что занять её нельзя), чтобы извне увидеть глаз и то, что он видит. Отсюда сущность видения устанавливается не посредством исследования глаза, но показана самой структурой зрительного поля.
Следовательно, в философии имеет смысл говорить о Я, если рассматривать его не как выделенную позицию. «Я вступает в философию благодаря тому, что “мир есть мой мир”» [5.641]. Образ мира даёт мне мой мир. Мир, который я обнаруживаю как мой мир, указывает на Я фактом своей приватности, а не тем, что Я обнаруживается в нём как его часть или вне его, как то, что ему противостоит. Я дано миром в целом демонстрацией того, что мы не можем превзойти границы того образа мира, который создали. И если философское Я, ‘метафизический субъект’ имеет смысл, то о нём можно говорить как о том, что показано наличием такой границы. В этом случае субъект есть граница мира [5.632; 5.641].
Но что значит говорить о метафизическом субъекте? В языковом отношении философское Я обычно, вводится как подлежащее пропозициональных установок [5.541]. В утверждениях типа “А верит, что …”, “А думает, что …” полюс, обозначенный ‘А’, рассматривается как коррелят субъекта и противопоставляется тому, во что верилось, что думалось и т.п. Конечно, А трактуется по-разному (например, у Рассела как основание синтеза логических неопределяемых), но соответствующий языковой элемент всегда понимается как указание на подлежащее познавательной деятельности. Здесь A вполне соответствует глазу, если последний рассматривать как элемент зрительного поля. В этом случае ‘A’ анализируется как необходимый элемент языка. Но то, как структуру языка описывает Витгенштейн, указывает, что такой элемент в языке не является необходимым. Язык, как шаблон, накладываемый на мир, не требует субъекта в качестве составляющей этого шаблона.
Анализ пропозициональных установок, предпринятый в ЛФТ, показывает, что ‘A’ не является обозначением чего-то простого. При надлежащем объяснении предложения типа “А верит, что р”, “А думает, что р” сводятся к “‘p’ говорит р” [5.542], где с помощью последнего пытаются выразить проективное отношение ‘p’ к тому, что оно описывает. Как говорилось ранее, при таком понимании ‘A’ как указание на нечто простое исчезает, остаётся образ, имеющий сложную структуру, и соотнесённая с ним реальность. Сведение A к совокупности образов указывает на то, что оно не является простым. А это само по себе свидетельствует, что ‘A’ нельзя трактовать как обозначение субъекта, поскольку «составная душа больше не была бы собственно душой» [5.5421]. Субъект, понимаемый как совокупность фактов, которыми являются образы, для философии есть ‘небылица’ [5.5421][216]. Кроме того, согласно общей позиции Витгенштейна, о проективном отношении предложения к действительности ничего сказать нельзя, так как оно показано самим предложением. Поэтому эксплицитная формулировка выражений типа “‘p’ говорит р” не имеет смысла, поскольку эти выражения не говорят ничего, помимо ‘p’. И, стало быть, ‘A’, даже если предположить, что оно обозначает нечто сложное, в любом случае из правильно понятого языка исчезает.
Как же тогда можно указать на философское Я? Поскольку «субъект не принадлежит миру, но он есть граница мира» [5.632], указать на философское Я можно зафиксировав эту границу. В афоризме 5.6 Витгенштейн говорит: «Границы моего языка означают границы моего мира». Таким образом, на субъект указывают не отдельные предложения, он ограничен их совокупностью[217]. Совокупность предложений, составляющих образ мира, обозначает философское Я посредством границы, за которую не может выйти изображение. Границу изображению ставит логика, показывая структуру, которую не может преодолеть никакое описание. «Логика наполняет мир; границы мира являются также её границами» [5.61]. В образе мира логика определяет то необходимое без чего невозможно создать никакой образ. В этом смысле «логика трансцендентальна» [6.13]. Правда, сказать о такой границе ничего нельзя. «Мы не можем говорить в логике: это и это существует в мире, а то – нет. Ибо это, по-видимому, предполагало бы, что мы исключаем определённые возможности, а этого не может быть, так как в противном случае логика должна была бы выйти за границы мира: чтобы она могла рассматривать эти границы также с другой стороны. То, чего мы не можем мыслить, того мы мыслить не можем: мы, следовательно, не можем сказать того, чего мы не можем мыслить» [5.61]. Граница может быть только показана совокупностью систематически организованных предложений. Таким образом, о метафизическом субъекте ничего нельзя сказать ‘в языке’, но он показан наличием самого языка.
Здесь, казалось бы, приходят к противоречию безличность логики, не зависящей от эпистемологических предпосылок, и приватность языка (‘моего языка’, как говорит Витгенштейн). Для того чтобы понять, почему речь идёт именно о моём языке, хотя по ходу дела в ЛФТ речь идёт только о безличной логике, необходимо вернуться к некоторым рассмотренным ранее концепциям. При создании образа мира логики самой по себе недостаточно, она лишь ставит границу всякому возможному образу. Логику не интересует вопрос о том, как именно обстоят дела в мире, она ограничивается предположением, что мир есть. Отталкиваясь от структурных особенностей предложений, заданных их основным свойством, логика предполагает, что мир состоит из фактов, являющихся комбинациями состояний дел, где последние, в свою очередь, являются констелляциями предметов. Но логика не может решить, какие именно факты могут иметь место в мире. «Логика есть до всякого опыта – что нечто есть так. Она есть до Как, но не до Что» [5.552].
Ограничиваясь рамками логической необходимости, нельзя решить, как именно обстоят дела в мире, поскольку всё это находится в сфере случайного. При создании образа мира синтаксических закономерностей недостаточно. На такую недостаточность указывает то, что a priori, как говорилось ранее, невозможно установить общую форму элементарного предложения. Действительно, это требовало бы знания количества предметов в мире, но логика не может дать такого знания. А если не предполагать способности верифицировать элементарные предложения, никакой образ действительности создать нельзя. Знание о форме элементарных предложений, являющихся исходным материалом в создании образа мира, даёт применение логики: «Применение логики решает, какие элементарные предложения имеются» [5.557]. Сама по себе логика не способна предвидеть того, что заложено в её применении, поскольку здесь она выходит в сферу случайного. Кроме того, установление форм элементарных предложений зависит от рассмотренного ранее операционального принципа контекстности, который также связан с применением логики, а не с её априорной конструкцией.
Логика не противоречит своему применению, но и не перекрещивается с ним [5.557]. В противном случае, т.е. если имело бы место перекрещивание, логика и её применение частично совпадали бы, что абсурдно, поскольку тогда применение логики выходило бы за рамки самой логики. Но как говорит Витгенштейн, «логика должна соприкасаться со своим применением» [5.557]. Вот здесь и возникает вопрос о субъекте. Применение логики указывает на подлежащее применения, точку соприкосновения. Именно Я, применяя логику, наполняет её формальные структуры содержанием действительного мира. Образ мира создаётся только с точки зрения применения логики, только в границах языка, который понимает Я [5.62].
Учитывая приватность языка, Витгенштейн сближает свою концепцию субъекта с солипсизмом. Он говорит: «То, что на самом деле подразумевает солипсизм, вполне правильно, только это не может быть сказано, а лишь показывает себя. То, что мир есть мой мир, показано тем, что границы языка (единственного языка, который понимаю я) означают границы моего мира» [5.62]. Обыкновенно солипсизмом называется позиция, придерживающаяся того мнения, что единственной реальностью является совокупность моих собственных представлений. Если отождествить представление с образом и, следовательно, рассматривать его как предложение, то можно было бы сказать, что позиция Витгенштейна является лингвистической разновидностью солипсизма. Но в каком смысле?
Исходя из общего понимания субъекта, который не находит места в мире, но является его границей, позиция Витгенштейна не является солипсизмом в эмпирическом, физиологическом или психологическом смысле. Действительно, даже если предположить, что мир есть моё представление, в этом представлении я сам, как субъект, не нахожу места, но позиционируюсь как условие этого представления. В этом случае я выступаю как граница своего представления. Само же представление является случайным. О своём особом Я можно судить только на основании особого содержания представлений. Но о таком ли Я идёт речь?
Если вернуться к аналогии с глазом, то о том, что это мой глаз, можно судить по тому, что содержание зрительного поля может быть совершенно иным. Это действительно содержание моего зрительного поля. Например, одни части зрительного поля я вижу ближе, чем другие. Однако всё это случайно, и ничто не препятствует тому, чтобы картина была совершенно иной. Ни одна часть моего зрительного поля не является априорной. В данном случае глаз имеет эмпирическую привязку, он содержательно определён. Также и Я, рассматриваемое с точки зрения конкретных представлений, содержательно определено. Здесь Я выступает границей определённого мира, мира тех или иных представлений. Является ли это Я тем самым метафизическим субъектом, о котором ведёт речь Витгенштейн? Очевидно, нет! Если логика показывает границы мира как такового, то и философский субъект должен выступать такой границей, которая не определена содержательно, но задана исключительно логикой языка.
И такая возможность есть. Ведь о глазе можно судить независимо от того, каким содержанием наполнено зрительное поле, а только по тому, что оно есть. Тогда зрительное поле демонстрирует не наличие какого-то определённого глаза, но наличие глаза вообще. В этом случае сущность видения показана тем, что зрительное поле центрировано, что оно имеет некоторую структуру. Правда, при таком подходе наличие зрительного поля указывает не на определённый глаз, скажем, мой или твой, но на глаз как таковой. Также и логика, хотя для создания образа мира она должна быть применена, не демонстрирует того, как это должно быть сделано в каждом конкретном случае. Единственное, что входит в компетенцию логики, это вопрос о том, что она вообще должна применяться. В противном случае никакого образа мира создать было бы нельзя из-за невозможности определить элементарные предложения, из которых строится такой образ. Приватность языка (т.е. характеристика его как ‘моего языка’, посредством которой появляется возможность говорить о философском субъекте) связана не с содержанием образа мира, а с необходимостью применения логики, если такой образ вообще должен быть создан[218].
Таким образом, солипсизм Витгенштейна существенно отличается от обычного солипсизма, сводящего мир к совокупности личных представлений. Философское Я у Витгенштейна безлично, так же как безлично, например, трансцендентальное единство апперцепций у Канта[219]. Солипсизм ЛФТ имеет трансцендентальный характер, где метафизический субъект никак не связан со случайным содержанием мира, но обозначен как его необходимая граница.
Здесь разъясняется, пожалуй, один из самых загадочных афоризмов ЛФТ, который гласит: «Здесь видно, что строго проведённый солипсизм совпадает с чистым реализмом. Я солипсизма сокращается до непротяжённой точки, и остаётся соотнесённая с ним реальность» [5.64]. Этот пассаж в некоторой степени дополняет замечание из Дневников: «Путь, которым я шёл, следующий: идеализм выделяет из мира людей как уникальное, солипсизм выделяет меня одного, и, наконец, я вижу, что тоже принадлежу всему остальному миру. Таким образом, с одной стороны, не остаётся ничего, а с другой – остаётся мир как уникальный. Так строго продуманный идеализм приводит к реализму» (Д, С.108(1)). Всё, что могло бы охарактеризовать мою индивидуальность, например моё тело, физиологические или психологические процессы, относится к случайному содержанию мира, но не к его необходимой границе. Когда же мы пытаемся обнаружить философское Я как необходимое условие существования мира, остаётся только мир и более ничего.
3.5.2. Ценности
Несмотря на очевидные аналогии, метафизический субъект Витгенштейна всё-таки отличается от трансцендентального субъекта Канта или Шопенгауэра, и отличается прежде всего тем, что не несёт никаких познавательных функций. Апелляция к трансцендентальному субъекту необходима для обоснования синтетического a priori. Но у Витгенштейна нет места синтетическому a priori. Всё знание, имеющее необходимый характер, является аналитическим и не выходит за рамки логики, которая не требует познающего субъекта. С точки зрения познания функция Я сводится к применению языка, необходимые черты которого не зависят от субъекта, а сами по себе задают параметры опыта. Язык лишь указывает на субъект, но, как уже говорилось, для организации опыта (или мира) в нём не нуждается.
Что же тогда представляет собой метафизический субъект? На этот вопрос Витгенштейн отвечает в Дневниках: «Субъект есть волящий субъект» (Д, С.109(10)). И даже более определённо: «Представляющий субъект есть, пожалуй, пустая химера. Но волящий субъект существует. Если воли нет, то также не существует того центра мира, который мы называем “Я” и который является носителем этики» (Д, С.102(4,5). С понятием метафизического субъекта появляется возможность рассмотрения сущности этики как способа исследования ценностей, поскольку, как говорит Витгенштейн, «я хочу назвать “волей” прежде всего носителя добра и зла» (Д, С.98(11)). Эта цитата указывает на то, что понятие воли и понятие ценностей взаимно имплицируют друг друга[220]. Трактовка ценностей уточняет то, как понимается метафизический субъект в качестве границы мира.
В ЛФТ ценности рассматриваются с точки зрения демаркации между тем, что может быть сказано в языке, и тем, что относится к области невыразимого. Обычно ценности используются для того, чтобы ввести иерархию фактов. С помощью оценок ‘добро’ и ‘зло’, ‘прекрасное’ и ‘безобразное’ одни факты стремятся поставить в подчинённое положение к другим, выстраивая степени предпочтения, основанные на безусловном следовании долгу или чувстве удовольствия. Это стремление выражается в попытках построить систематическую теорию ценностей, которая объясняла бы с точки зрения необходимых предложений предпочтительность одних фактов в сравнении с другими. Однако изобразительная теория предложений и вытекающая из неё онтология относят к сказанному только то, что имеет структуру факта. Учитывая, что факт в конечном счёте представляет собой конфигурацию простых предметов [2.01,2.0272], можно сказать, что к области невыразимого в языке относится всё то, что не удовлетворяет структуре состояния дел. Состояния дел случайны, точно так же случайна истинность или ложность соответствующих им предложений. С этой точки зрения «все предложения равноценны» [6.4]. Всё, что претендует на необходимый характер, ограничено логической необходимостью [6.3], которая не может быть высказана в языке, но показана закономерностями знаковой системы.
Что в этом случае можно сказать о ценностях? Ценности не имеют характера простых предметов, которые различны только тем, что они различны [2.0233]. Как раз наоборот, с помощью ценностей пытаются различить факты, которые состоят из простых предметов. Но тогда ценности не входят в структуру факта, с помощью них лишь пытаются некоторым фактам придать исключительное положение. Однако в онтологии ЛФТ все факты случайны. «В мире всё есть, как оно есть, и всё происходит так, как происходит. В нём нет никакой ценности, а если бы она в нём и была, то она не имела бы никакой ценности. Если есть ценность, имеющая ценность, то она должна лежать вне всего происходящего и вне так-бытия. Ибо всё происходящее и так-бытие случайно» [6.41]. С точки зрения Витгенштейна, метафизика ценностей невозможна, но не потому, что никаких ценностей нет, а потому, что они не существуют как факты, стало быть, они невыразимы в языке. «Предложения не могут выражать ничего высшего» [6.42]. В книге “Мир, как я его нахожу” нет места ценностям, как нет там места и метафизическому субъекту, являющемуся их носителем.
То, что в ЛФТ имеется в виду под ценностями, требует пояснения. Это связано с тем, что использование оценок слишком распространено, чтобы совершенно отказаться от их включения в совокупность осмысленных утверждений. Уточнение своему пониманию ценностей Витгенштейн даёт в Лекции об этике, которая, хотя и отстоит от ЛФТ на десяток лет, тем не менее содержательно близко к нему примыкает. Здесь он разводит ценности с точки зрения относительного или тривиального смысла и смысла абсолютного, или этического. Это различие проясняется следующим примером. Когда говорят о ‘хорошем стуле’, ‘хорошем пианисте’ или ‘правильной дороге’, речь идёт об относительных оценках, смысл которых в соответствии некоторому заранее установленному стандарту или в достижении определённой цели. «Каждое суждение об относительной ценности есть просто суждение о фактах и его можно сформулировать так, что оно вообще перестанет казаться суждением о ценности»[221]. Используя выражение ‘хороший стул’, имеют в виду только то, что эта вещь надлежащим образом выполняет своё предназначение. Хорошим пианистом называют человека, который может исполнять произведения определённой степени сложности. Если я как можно скорее хочу попасть в пункт N и спрашиваю, правильной ли дорогой я иду, положительный ответ подразумевает только то, что избранный мною путь является кратчайшим. Утверждения, использующие относительные оценки, вполне осмыслены. При соответствующем понимании они преобразуются в действительные предложения, описывающие случайные факты и, в силу этого, являющиеся случайно истинными или ложными. Так, я понимаю ответ “Вы идёте правильной дорогой”, поскольку знаю, при каких условиях он будет истинным, а при каких ложным.
Однако в случае относительных оценок речь, собственно, идёт не о ценностях, которые подразумевает этика. «Хотя все суждения об относительной ценности можно представить просто утверждениями о фактах, никакое утверждение о фактах никогда не может быть суждением об абсолютной ценности»[222]. Но что тогда представляет собой абсолютная ценность? Воспользуемся опять примером Витгенштейна: «Что же мы могли бы подразумевать под выражением “абсолютно правильная дорога”. Полагаю, что это будет дорога, увидев которую каждый с логической необходимостью либо пойдёт по ней, либо же будет стыдиться, что по ней не пошёл. Сходным образом абсолютное добро, если это некоторое описуемое положение дел, будет тем, что каждый независимо от его вкусов и пристрастий с необходимостью попытается делать (в противном случае он почувствует вину за то, что этого не делает). Но я, однако, должен сказать, что подобное положение дел есть химера. Никакое положение дел не обладает само по себе тем, что я хотел бы назвать принудительной силой абсолютного судии»[223]. Действительно, если мы обратимся к предложениям, претендующим на выражение высших этических ценностей (скажем, к предложениям, построенным в форме категорического императива), то что же мы обнаружим? «Первой мыслью при установлении этического закона формы “Ты должен…” является: “А что, если я этого не сделаю?”» [6.422]. Ответ на этот вопрос предполагает вполне осмысленное предложение, описывающее определённый факт. И если оно мыслится таковым, значит, требование императива также носит случайный характер, допускающий отрицание. Здесь нет той логической необходимости, которая предполагала бы ‘принудительную силу абсолютного судии’. Таким образом, положение дел, которое описывается императивом как необходимое, таковым не является, поскольку выраженная им ценность, с точки зрения Витгенштейна, относительна.
Любая попытка выразить абсолютные ценности в предложениях приводит к неудаче, поскольку действительные предложения описывают лишь случайные состояния дел. Поэтому так называемые предложения этики являются либо утверждениями об относительных ценностях, либо псевдопредложениями и не могут выражать сущность этического. В ЛФТ так и утверждается: «Этика не может быть высказана» [6.421]. Невыразимость этического ещё более подчеркивается Витгенштейном в Лекции об этике: «Наши слова, используемые по-научному, – это просто сосуды, способные сохранить и передавать значение и смысл, естественное значение и смысл. Этика же, если таковая возможна, сверхъестественна, в то время как слова могут выражать лишь факты»[224].
Невыразимость ценностей есть лишь иной способ демонстрации невыразимости метафизического субъекта, являющегося их носителем. Ценности не могут быть предметом этики ввиду её невозможности, и также «говорить о воле, как о носителе этического, невозможно» [6.423], поскольку каждое такое предложение будет лишено смысла. Если всё-таки о воле говорят, описывая «какие члены подчиняются моей воле, а какие – нет» [5.631], то речь идёт об эмпирическом Я, которое не является носителем ценностей. «Воля как феномен интересует только психологию» [6.423], являющуюся одной из естественных наук, все предложения которых равноценны [6.4] и описывают случайное содержание мира [6.41]. Недостаточность воли в психологическом смысле для этики Витгенштейн иллюстрирует следующим примером: «Представим себе человека, который не мог бы использовать свои члены и, следовательно, не мог бы в обычном смысле привести в действие свою волю. Но он мог бы мыслить, желать, сообщать свои мысли другим. Мог бы, таким образом, тоже делать добро или зло через другого. Тогда ясно, что этика также и для него имела бы значение, и он в этическом смысле является носителем воли» (Д, С.98(12)).
С чем же тогда остаётся этика? Ответ на этот вопрос вытекает из общего понимания субъекта как носителя ценностей: «Добро и зло входят только через субъекта. А субъект не принадлежит миру, но есть граница мира. Можно было бы (в духе Шопенгауэра) сказать: добр или зол не мир представления, но волящий субъект. Как субъект не есть часть мира, но предпосылка его существования, так и доброе и злое, предикаты субъекта, не являются свойствами мира» (Д, С.101(11,12,15)). Таким образом, этика выводится за рамки мира, за рамки того, что может быть сказано в языке. «Этика не имеет дела с миром. Этика должна быть условием мира, подобно логике» (Д, С.99(5)). В этом смысле «этика трансцендентальна» [6.421].
Согласно солипсистской позиции ЛФТ логика и метафизический субъект являются не просто предпосылками мира, но предпосылками моего мира. Этот подход наследуется и в этике. Здесь мы получаем своего рода этический солипсизм. «Могла бы существовать этика, если бы не существовало ни одного живого существа, кроме меня?» – задаётся вопросом Витгенштейн. И отвечает: «Если этика должна быть чем-то основополагающим: да!» (Д, С.101(7,8)). Таким образом, воля в этическом смысле направлена не на другого человека, она является установкой субъекта по отношению к миру. Но данная выше характеристика субъекта говорит о том, что это солипсизм, совпадающий с чистым реализмом [5.64]: «Как мое представление есть мир, так и моя воля есть мировая воля» (Д, С.108(4)).
Как реализуется эта установка? Ответ на этот вопрос вытекает из понимания субъекта как границы мира: «Если добрая и злая воля изменяет мир, то она может изменить только границу мира, а не факты, не то, что можно выразить посредством языка» [6.43]. Действия воли в этическом смысле не имеют отношения к происходящему в мире, поскольку «мир не зависит от моей воли» [6.373]. Последствия этического действия не относятся к разряду фактов. «Вопрос о последствиях действия не должен относиться к делу. По крайней мере, эти последствия не должны быть событиями» [6.422]. Воздействие на границы мира предполагает, что «благодаря этому мир должен вообще стать совсем другим. Он должен, так сказать, уменьшаться или увеличиваться как целое» [6.43]. Для пояснения опять воспользуемся примером Витгенштейна[225]. Допустим, мы стали свидетелями убийства. Можно в мельчайших подробностях описать это событие, мотивы, которые к нему привели, и вытекающие из него последствия. Более того, можно описать совокупность психологических переживаний участников и свидетелей этого события, скажем, боль и жестокость одних или сострадание и гнев других. Но всё это будет описанием фактов, случайных фактов. Что изменилось в мире, когда это событие произошло? Ничего. Содержание мира осталось столь же случайным. Нигде в описании этого события мы не найдём того, что можно было бы назвать предложением этики, описанием абсолютной ценности. И всё же что-то изменилось. Изменились установка, перспектива видения мира, его оценка как целого. Относиться ли к миру как к арене жестокой борьбы за существование или как к испытанию, выпавшему на долю человека? Ответ на этот вопрос ничего не меняет в структуре фактов. Факты остаются одни и те же. Меняется установка. «Мир счастливого совершенно другой, чем мир несчастного», – говорит Витгенштейн [6.43], подразумевая, что он является другим не в отношении своего содержания, а с точки зрения перспективы видения.
Действенность абсолютных ценностей не в том, что следование им приводит к желаемым событиям, а в том, в каком мире мы хотим жить. Также вознаграждение и наказание при реализации этической воли лежат не в мире, но коренятся в самом действии, которое может привести к изменению перспективы его восприятия [6.422]. В сущности, этическое поведение видится Витгенштейну в реализации единственного императива: «Живи счастливо!» (Д, С.95(6)), поскольку, следуя Достоевскому, он утверждает: «Тот, кто счастлив, выполняет цель бытия» (Д, С.97(5)). Счастливая жизнь и есть показатель этического вознаграждения.
Правда, весьма непросто понять, что же Витгенштейн имеет в виду под счастливой жизнью. В ЛФТ какая-либо экспликация этого отсутствует вовсе. Оно и понятно, поскольку все такие вопросы относятся к области невыразимого. В Дневниках, например, указывается: «Счастливая жизнь кажется в каком-то смысле более гармоничной, чем несчастная. Но в каком? Какова объективная отличительная черта счастливой, гармоничной жизни? Здесь вновь становится ясно, что не существует такой черты, которая могла бы быть описана. Эта отличительная черта не может быть физической, но только метафизической, трансцендентной» (Д, С.100(11)).
Тем не менее в тех же Дневниках можно обнаружить заметки, в которых тема эвдемонизма развивается. Однако ввиду разноплановости, их весьма затруднительно привести в систематическую связь. Например, касаясь источников счастливой жизни, Витгенштейн спрашивает: «Как человек вообще может быть счастлив, ведь он же не способен предотвратить бедствия этого мира?» И отвечает: «Именно через жизнь познания», поскольку «добрая совесть – это счастье, которое предоставляется жизнью познания» (Д, С.103(4-6))[226]. Но то, каким образом ‘добрая совесть’ связана с ‘жизнью познания’, вопрос не просто трудный, но допускает прямо противоположные интерпретации.
Несколько лучше дело обстоит с характеристиками счастливой жизни. Например, Витгенштейн говорит: «Чтобы жить счастливо, я должен быть в согласии с миром. А это ведь и значит ‘быть счастливым’» (Д, С.96(17)). Учитывая, что «Я есть мой мир» [5.63], это утверждение означает согласие с самим собой. Несчастлив тот, кто не достиг такого согласия и отрицает мир, который и есть жизнь [5.621], определяемый, с одной стороны, как моё представление и, с другой стороны, как моя воля. Несогласие с миром приводит к его отрицанию, т.е. к отрицанию самого себя. Отсюда вытекает определение самоубийства как элементарного греха. Уничтожая себя, я выражаю несогласие с миром. Самоубийство есть высшее выражение крайне недобродетельной жизни, поскольку отрицание мира означает низшую степень его оценки, реализующейся в этом действии. Перефразируя известное утверждение Достоевского, Витгенштейн говорит: «Если самоубийство дозволено, тогда всё дозволено. Если что-то не дозволено, тогда самоубийство не дозволено» (Д, С.114(8,9)). Самоубийство не изменяет границу мира, оно отменяет мир.
В противоположность недобродетельной, добродетельная жизнь претендует на жизнь вечную. В Дневниках говорится: «Тот, кто счастлив, не должен иметь страха. Даже перед смертью. Счастлив тот, кто живёт не во времени, а в настоящем. Для жизни в настоящем смерти не существует» (Д, С.96(12-14)). Настоящее здесь рассматривается как форма вечности. Установка по отношению к миру не предполагает временности, которая является характеристикой описания фактов. Временное упорядочивание событий имеет отношение только к фактам мира. Подход к смерти с точки зрения времени рассматривал бы её как один из фактов, расположенный во временном ряду вместе с другими фактами. Но, продолжая эту тему в ЛФТ, Витгенштейн говорит: «Смерть – не событие жизни. Смерть не переживается» [6.4311]. В случае смерти мир не становится другим, его границы не изменяются. Мир просто прекращается [6.431]. Под вечностью следует понимать не бесконечную временную длительность, что имело бы отношение к фактам мира, но отсутствие времени, вневременность, которая предполагается установкой по отношению к миру в целом[227]. В этом смысле Я столь же бесконечно, как безгранично поле зрения. Быть в согласии с миром – значит оценить его с точки зрения вневременной, с точки зрения, не оперирующей категорией смерти как факта.
В любом случае в рассуждениях Витгенштейна обращает на себя внимание то, что, даже говоря о ценностях, он не пытается дать их содержательное описание, которое невозможно, но пытается показать, что ценности реализуются в установке по отношению к миру в целом.
3.5.3. ‘Мистическое’
Вневременная оценка мира в целом даёт ещё одно важное понятие, понятие мистического. В афоризме 6.45 говорится: «Созерцание мира sub specie aeterni есть его созерцание как ограниченного целого. Чувствование мира как ограниченного целого есть мистическое». Абсолютные ценности реализуются в мистической установке, где нет места дискурсивному познанию. Мир как ограниченное целое познать нельзя, поскольку это предполагало бы возможность мыслить ‘обе стороны границы’, т.е. возможность ‘мыслить немыслимое’. С точки зрения вечности мир можно лишь переживать, изменяя его границы [228]. Этот опыт, опыт переживания абсолютных ценностей, Витгенштейн характеризует прежде всего как переживание существования мира: «Мистическое не то, как мир есть, но то, что он есть» [6.44]. Этическая установка, изменяющая границы мира, должна базироваться на том, что мир существует, поскольку его существование есть элементарная предпосылка реализации абсолютных ценностей. Таким образом, переживание существования мира является основой этики.
В Лекции об этике Витгенштейн описывает мистический опыт как удивление существованию мира, который пытаются выразить в фразах, типа: “Как необычно, что нечто должно существовать” или “Как необычно, что мир должен существовать”. Но самое главное, что использование подобных фраз бессмысленно, поскольку мистический опыт невыразим. «Если я говорю: “Я удивляюсь существованию мира”, то просто неправильно пользуюсь языком»[229]. Указание на неправильное использование языка в подобных фразах как раз и уточняет, что имеется в виду. Переживание существования мира выходит за рамки описания того, что имеет место в мире, и поэтому не может быть выражено в языке[230]. Здесь нельзя путать удивление фактами мира с удивлением фактом его существования. Например, я удивляюсь величине собаки огромных размеров только потому, что я могу представить себе обычную собаку. Удивление подобного рода не выходит за рамки фактов мира и может быть описано. Но совершенно не то имеется в виду, когда пытаются выразить существование мира как таковое. «Слова “Я удивляюсь тому-то и тому-то, имеющему место” – будут осмысленными лишь тогда, когда я смогу вообразить, что это может и не иметь места… Но бессмысленно говорить, будто я удивляюсь существованию мира, ибо я не могу вообразить его несуществующим»[231].
Опыт существования мира – это опыт чуда. Это опыт, обладающий сверхъестественной ценностью. Но не в том смысле, что обычно подразумевают под чудом. Обыкновенно чудом называют то, что выходит за рамки обычного положения дел. Скажем, вновь обращаясь к примеру Витгенштейна, у кого-то вдруг выросла львиная голова. В обычном смысле это можно назвать чудом, но лишь в том отношении, что данное событие выходит за рамки того, что, как правило, происходит. Тем не менее этот факт всё же можно описать и даже дать ему научное обоснование, если таковое найдётся. Во всяком случае, его можно попытаться найти, воспользуясь услугами врача и научным образом подвергнув пациента вивисекции. Но тогда чудо исчезнет. При худшем результате останется лишь до конца не объяснённый факт, т.е. факт, который мы пока не смогли подвести под общую форму естественнонаучного закона. «Но куда же в таком случае денется чудо?» – задаётся вопросом Витгенштейн. «Ибо ясно, что когда мы взглянем на чудо подобным образом, всё чудесное исчезнет. Если только мы не называем словом ‘чудо’ то, что некоторый факт ещё не был объяснён наукой, а это, в свою очередь, означало бы, что мы до сих пор не сумели сгруппировать данный факт с другими фактами в научной системе. Это свидетельствует об абсурдности фразы “Наука доказала, что нет чудес”. Истина в том, что научный взгляд на факт совсем не есть способ рассмотрения факта в качестве чуда. Ибо какой бы вы не вообразили факт, сам по себе он не является чудесным в абсолютном смысле этого слова. Итак, мы сейчас видим, что ранее использовали слово ‘чудо’ в относительном и абсолютном смысле. И теперь я опишу опыт удивления существованию мира, сказав, что это опыт видения мира как чуда»[232].
В Дневниках Витгенштейн пишет: «Художественно чудо заключается в том, что оно даёт мир. Что оно даёт то, что существует» (Д, С.108(10)). Например, я могу удивляться голубизне неба, предполагая, что в другой момент оно может и не быть столь голубым. Но абсолютность чуда не в степени голубизны, это всё относительно. Абсолютность чуда в том, что небо есть. «Если, к примеру, я приобрёл подобный опыт, наблюдая голубое небо, то мог бы удивляться голубизне неба в настоящий момент в противоположность тому моменту, когда небо было затянуто тучами. Но отнюдь не это я имею в виду. Я-то удивляюсь небу, каково бы оно ни было. Появляется желание сказать, что то, чему я удивляюсь, есть всего лишь тавтология: небо голубое или не голубое. И тогда оказывается просто бессмысленным говорить, что кто-то удивляется тавтологии»[233].
То, что здесь упоминается тавтология, не случайно. Стоит лишь вспомнить уже неоднократно цитировавшийся афоризм 5.552: «‘Опыт’, в котором мы нуждаемся для понимания логики, заключается не в том, что нечто обстоит так-то и так-то, но в том, что нечто есть, но это как раз не опыт. Логика есть до всякого опыта, что нечто есть так. Она есть до Как, но не до Что». Посредством тавтологий логика указывает на границы мира, но как? Она указывает на границы мира, связывая действительные предложения в ничего не говорящие предложения [6.121]. Но наличие ничего не говорящих предложений само по себе требует того, из чего они состоят. Для установления характерной для тавтологий связи нужно, чтобы было что связывать. Отсюда вытекает необходимость действительных предложений, предложений, которые имеют истинностное значение и фактом своей истинности и ложности указывают на мир[234]. Демонстрируя необходимость действительных предложений, тавтологии показывают, что нечто есть, действительные же предложения говорят о том, как обстоят дела в мире. Отсюда вытекает способ обозначения мира как чуда: «Я склонен считать, что верным обозначением в языке чуда существования мира будет само существование языка (хотя это и не является предложением в языке). Но тогда что же означает быть осведомлённым об этом чуде в одно какое-то время и быть неосведомлённым в другое? Ибо всё, что я сказал, перенося описание чудесного из выражения ‘с помощью языка’ в выражение ‘благодаря существованию языка’ – это опять же сводится к тому, что мы не способны выразить всё, что хотим. Всё, что мы говорим об абсолютно чудесном, остаётся бессмысленным»[235].
Итак, хотя мистическое не высказано в языке, оно всё же представлено посредством существования самого языка: «Есть, конечно, нечто невысказываемое. Оно показывает себя; это – мистическое» [6.522]. Данный афоризм указывает на то, что мистическое – это не только само чувствование, но и предмет этого чувствования. Различие чувства и предмета чувствования здесь, конечно, относительны, поскольку предмет мистического переживания реализуется в самом этом переживании, а попытка указать на такой предмет возможна только при реализации мистического чувства. Тем не менее указание на то, что переживается, всё-таки имеет определённое значение для разъяснения общей концепции.
Условность подобных указаний, которые по определению невыразимы в языке, не мешает Витгенштейну сослаться в Дневниках на предмет мистического чувства. Например, он пишет: «Мир дан мне, т. е. моя воля подступает к миру совершенно извне, как к чему-то уже готовому. Поэтому мы чувствуем, что зависим от чужой воли. Как бы то ни было, мы в определенном смысле зависимы, и то, от чего мы зависим, мы можем назвать Богом. В этом смысле Бог был бы просто судьбой, или, что то же самое, миром, независимым от нашей воли» (Д, С.96(4-8)). Таким образом, мистическое – это не просто ‘созерцание мира как органического целого’, но и сам мир, ‘не зависящий от моей воли’. Конечно, мир есть ‘мой мир’, но с точки зрения содержания он не зависит ни от моих познавательных способностей, ни от моих волевых усилий. То, что есть, привходит извне, а не от меня самого, от меня зависит лишь оценка. Даже если предполагать, что мир есть моё представление, открытым всё равно остаётся вопрос, почему эти представления именно есть.
В ЛФТ утверждается: «Как есть мир – для высшего совершенно безразлично. Бог не проявляет себя в мире» [6.432]. Среди фактов мира невозможно обнаружить то, что является их основанием. Но наличие самих фактов показывает, что должно быть нечто, являющееся их источником, поскольку сам я не могу выступать в качестве такового. Дневники дают следующее решение этой проблемы: «То, как всё обстоит, есть Бог. Бог есть то, как всё обстоит» (Д, С.101(2,3))[236]. Речь здесь идёт не о том, как обстоит отдельное, как обстоит то, что имеет место в мире, но то, как обстоит всё в целом. Это решение в чём-то сродни пантеизму, хотя и далеко отстоит от взглядов стоиков или Спинозы[237]. Поскольку ‘Бог не проявляет себя в мире’, содержание мира не может рассматриваться как проявление атрибутов божественной субстанции. На Бога указывает граница мира, созерцаемого с точки зрения вечности.
Тем не менее между пантеизмом и взглядами Витгенштейна можно установить некоторые параллели. В частности, это относится к отождествлению этических и эстетических ценностей. Это отождествление находит текстуальное подтверждение в ЛФТ: «Этика и эстетика – одно» [6.421]. Отождествление ценностей связано с характером их переживания. Ценность – это то, что придаёт миру завершённое выражение, поскольку с точки зрения ценности важно не то, какие спецификации имеет мир, а то, что он есть. В Дневниках так обозначается единство этического и эстетического измерений ценностей: «Произведение искусства – это предмет, видимый sub specie aeternitatis; а хорошая жизнь – это мир, видимый sub specie aeternitatis. В этом связь между искусством и этикой» (Д, С.105(8)).
Отождествление этики и эстетики – не новация Витгенштейна. Явная связь между, с одной стороны, созерцанием мира с точки зрения вечности как ограниченного целого и, с другой стороны, отождествлением этических и эстетических ценностей характерна как раз для пантеизма. В противоположность теизму, который настаивает на онтологическом дуализме сущего и должного, связывая с этим ущербность наличного бытия и тем самым открывая перспективу его совершенствования, пантеизм обязательно исходит из представления о мире как самодостаточном целом. Только такой мир и может быть предметом созерцания с точки зрения вечности, т.е. представлять собой и ‘произведение искусства’, и ‘хорошую жизнь’ одновременно. Ограниченность целого не оставляет места для исключительной позиции Божества, которая позволяла бы соотносить несовершенство мира с совершенством Бога. Тем самым теряются и всякие основания для предположения о несовершенстве (ущербности) наличного бытия.
Отсюда, кстати, вытекает представление Витгенштейна о счастье, которое, не взирая на бедствия мира, предоставляется жизнью познания. Здесь проявляется типичная установка пантеизма на атараксию. Поскольку мир «не зависит от моей воли» [6.373], воздействовать можно только на границы мира, изменяя не наличное, а его оценку. Мир счастливого отличается от мира несчастного не совокупностью происходящего, а позицией созерцающего и оценивающего [6.43]. Мудрец успокаивается не преобразованием действительности, а принятием её такой, какой она созерцательно предстаёт. Поскольку разведение эстетической и этической оценки связано прежде всего с различием созерцания и действия, постольку в отсутствие этого различия этика и эстетика суть одно. Поэтому Витгенштейн утверждает, что добрая совесть предоставляется жизнью познания, где ‘добрая совесть’ деактуализирует различие между созерцанием и действием[238].
Установка на атараксию результируется в позиции квиетизма. В Дневниках говорится: «Я не могу подчинить события мира своей воле, но я совершенно бессилен. Я только могу сделать себя независимым от мира – и, таким образом, в определённом смысле всё-таки овладеть им – за счёт того, что я отказываюсь от какого-либо влияния на происходящее» (Д, С.94(19)). На позицию квиетизма, по-видимому, большое влияние оказали религиозно-этические произведения Л.Н.Толстого с их идеями непротивления, которые Витгенштейн читал на фронте и высоко оценил. Следы этого влияния можно обнаружить в Тайных дневниках: «Снова и снова я говорю в духе слов Толстого: “Человек безвластен над плотью, но свободен посредством духа”. Дух да пребудет во мне!»[239]. Здесь же позиция квиетизма опробована на практике в отношении окружения, с которым Витгенштейн никак не мог найти общий язык. Например, запись от 26.08.14 гласит: «Вчера решил не оказывать сопротивления, совершенно облегчить, так сказать, своё внешнее, чтобы моё внутреннее осталось в неприкосновенности»[240].
В Дневниках отношение к Богу Витгенштейн связывает со смыслом жизни: «Смысл жизни, т. е. смысл мира, мы можем назвать Богом» (Д, С.94(16)). Там же он продолжает: «Верить в Бога – значит понимать вопрос о смысле жизни. Верить в Бога значит видеть, что факты мира – это не всё. Верить в Бога – значит видеть, что жизнь имеет смысл» (Д, С.96(1-3)). Но это как раз тот смысл, который лежит за рамками мира [6.41], за рамками того, что может быть выражено в языке. Проблема смысла жизни не затрагивается теми вопросами, которые могут быть решены наукой [6.52], поскольку «решение загадки жизни в пространстве и времени лежит вне пространства и времени» [6.4312]. Даже если предположить, что наука решила все вопросы, «проблемы жизни не были бы при этом даже затронуты» [6.52]. Загадки жизни не существует в том смысле, в котором существуют научные проблемы, поскольку проблема предполагает ответ, но если ответ не предусмотрен, то бессмысленной становится и загадка [6.5]. «Решение проблемы жизни замечают по исчезновению этой проблемы» [6.521], когда достигается согласие с миром и приобретается чувство абсолютной безопасности, которое в Лекциях об этике рассматривается Витгенштейном как проявление этического опыта наряду с чувством удивления существованию мира. Исчезновение проблемы жизни объясняет, почему «люди, которым после долгих сомнений стал ясным смысл жизни, всё же не могут сказать, в чём он состоит» [6.521]. Опыт переживания смысла жизни не может быть выражен, он может быть лишь показан самой жизнью, созерцаемой с точки зрения вечности и тем самым получившей законченное выражение[241].
Непригодностью языка для выражения смысла жизни Витгеншейн заканчивает свою Лекцию об этике: «Я понимаю, что данные предложения оказались бессмысленными не в силу того, что я не подобрал для них правильного [лингвистического] выражения, а потому, что бессмысленность была самой их сущностью, и всё, что я хотел сделать с ними, так это просто выйти за пределы мира, т.е. за пределы обладающего значением языка. Моё основное стремление, да и стремление всех, кто когда-либо пытался писать и говорить об этике или религии, – вырваться за пределы языка. Этот прорыв сквозь решётку нашей клетки абсолютно безнадёжен. Этика, поскольку она проистекает из стремления сказать нечто об изначальном смысле жизни, об абсолютно добром и абсолютно ценном, не может быть наукой. То, что она говорит, ни в коем случае ничего не добавляет к нашему знанию. Но она всё же является свидетельством определённого стремления человеческого сознания, которое я лично не могу перестать глубоко уважать и которое никогда в жизни не стану осмеивать»[242].
Этот абзац можно рассматривать как отзвук заключительного афоризма ЛФТ, выражающего всю сущность этики: «О чём невозможно говорить, о том следует молчать» [7].
3.6. Итог: Философия как деятельность
Картина, описывающая возможности языка, была бы неполной, если бы Витгенштейн прошёл мимо одной из основных проблем всякой философии, если она претендует на главную роль в театре теоретического знания. Ни одна наука не задаётся вопросом, что есть она сама? Его невозможно обнаружить ни в логике, ни в математике, ни в одной из отраслей естествознания как их собственное содержание. Если такие вопросы и возникают, то они относятся к компетенции философии. И в ЛФТ, если судить на основании вышеизложенного, было представлено, как они могут быть решены. Но каждый такой вопрос в рамках философии является частным и решается с точки зрения общего видения границ теоретизирования. Но если такие границы могут быть установлены, то они должны также дать ответ на вопрос: «Что представляет собой сама философия?». Ответ во многом определён содержанием ЛФТ, поскольку решение поставленной в нём задачи предполагает демонстрацию философии в действии. Общая цель «провести границу мышлению или, скорее, не мышлению, а выражению мыслей», указанная в предисловии, как раз и означает применение метода, который реализует представление о том, чем является философия. С этой точки зрения вопрос о возможности предложений философии можно было бы считать излишним, если бы позиция, прорисованная в ЛФТ, не приводила к парадоксальному выводу. Стремление ‘провести границу выражению мыслей’ предполагает, что эта граница мыслится и с той и с другой стороны, что, как утверждает Витгенштейн, невозможно. Отсюда вытекает необходимость решения вопросов о том, чем философия быть не может и чем она должна быть.
Начнём с рассмотрения первого вопроса. Содержание предыдущих разделов косвенно указывают на то, каким может быть ответ. Когда Витгенштейн говорит, что «совокупность всех истинных предложений есть всё естествознание» [4.11], он подразумевает, что описаны могут быть только факты. Утверждая же, что «философия не является одной из естественных наук» [4.111], он имеет в виду, что философия не имеет отношения к фактам и, следовательно, её утверждения являются псевдопредложениями. Положения, которые философия рассматривает как собственное позитивное содержание, не могут быть истинными и ложными, они не являются образами фактов, а потому выходят за рамки осмысленного употребления языка. Попытка разглядеть философский смысл в какой-либо естественнонаучной теории (скажем, теории Дарвина [4.1122]) или сблизить философию с какой-то естественнонаучной дисциплиной (например, психологией [4.1121]) бессмысленны, поскольку от описания фактов нельзя перейти к тому, что подразумевается философскими положениями. Это был бы выход за рамки образов, отображающих содержание мира, в сферу того, что по определению описать нельзя. «Слово ‘философия’ должно означать что-то стоящее над или под, но не наряду с естественными науками» [4.111], а потому её выражения должны рассматриваться как лишённые смысла.
Но что значит ‘лишённые смысла’? Ведь предложения логики и математики также лишены смысла. Но они не бессмысленны как бессмысленно несвязное сочетание знаков, они нечто показывают о структуре языка и, следовательно, мира, связывая друг с другом вполне осмысленные выражения. Что в этом случае можно сказать о положениях философии? Философия, поскольку она не описывает никакие факты, не является теорией, претендующей на создание истинного образа мира. Содержание образа мира исчерпывается совокупностью естественных наук. Поэтому бессмысленны все те философские положения, которые выражают претензию на изображение фактов и пытаются что-то сказать о ценностях, структуре субъекта или об отношении человека к Богу. Витгенштейн утверждает: «Большинство предложений и вопросов, трактуемых как философские, не ложны, а бессмысленны. Поэтому мы вообще не можем отвечать на такого рода вопросы, мы можем только установить их бессмысленность. Большинство вопросов и предложений философов вытекает из того, что мы не понимаем логики нашего языка. (Они относятся к такого рода вопросам, как: является добро более или менее тождественным, чем красота?) И не удивительно, что самые глубочайшие проблемы на самом деле не есть проблемы» [4.003].
Философия как система позитивного знания невозможна. С этой точки зрения все традиционные философские подходы бессмысленны. Но Витгенштейн не отказывает философии в праве на существование. «Вся философия есть “критика языка”», – говорит он [4.0031]. Как следует понимать это утверждение, разъясняет афоризм 4.112:
«Цель философии – логическое прояснение мыслей.
Философия не теория, а деятельность.
Философская работа состоит по существу из разъяснений.
Результат философии – не ‘философские предложения’, но прояснение предложений.
Философия должна прояснять и строго разграничивать мысли, которые без этого являются как бы тёмными и расплывчатыми».
Примером методической деятельности подобного типа может служить содержание ЛФТ. В таком понимании работы философа реализуется принцип, который нам хотелось бы назвать принципом интеллектуальной честности, ограждающий от болтовни то, ‘о чём следует молчать’ [7]. Формулировку этого принципа можно увидеть в афоризме 4.116: «Всё то, что вообще может быть мыслимо, должно быть ясно мыслимо. Всё то, что может быть сказано, должно быть ясно сказано».
‘Сказанное ясно’ ограничивается сферой естественных наук. Отсюда вытекает метод, которым должна руководствоваться философия: «Правильным методом философии был бы собственно следующий: не говорить ничего, кроме того, что может быть сказано, – следовательно, кроме предложений естествознания, т.е. того, что не имеет никакого отношения к философии, – и затем всегда, когда кто-нибудь захочет сказать нечто метафизическое, показать ему, что он не дал никакого значения некоторым знакам в своих предложениях. Этот метод был бы неудовлетворительным для нашего собеседника – он не чувствовал бы, что мы учим его философии, но всё же это был бы единственный строго правильный метод» [6.53].
Этот метод в действии можно увидеть в ЛФТ, как в решении частных проблем, касающихся, например, метафизических допущений, связанных с теорией типов или аксиомой бесконечности, так и в решении главной проблемы всякой философии, проблемы смысла жизни. Правда, решение этих проблем демонстрируется их исчезновением, если правильно понят язык. В ироничном утверждении Дневников: «Одна из наиболее сложных задач философа – найти, где жмёт ботинок» (Д, С.80(9)), содержится, пожалуй, самое главное. Дело философии не создавать теории (т.е. не шить ботинки), но устанавливать, где с точки зрения языка эти теории дают или могут давать сбои. Но как только ‘найдено, где жмёт ботинок’ и помеха устранена, необходимость в философии отпадает. Этим демонстрируется, что философские положения сами по себе лишены смысла, они не изображают никаких фактов и не должны пониматься как действительные предложения. О языке ничего нельзя сказать, всё это выходит за рамки осмысленных утверждений, но, будучи правильно понят, язык сам показывает всё, что нужно. Философские разъяснения, по сути дела, представляют собой инструкции, как работает язык. Но инструкция о работе механизма не является частью самого механизма. В ней возникает потребность, когда механизм даёт сбой. Если всё нормально, то никакой инструкции не нужно, а сама по себе (т.е. без механизма) она лишена смысла.
ЛФТ как раз и представляет собой инструкцию пользователя языка. Но в этом своём качестве он мог бы рассматриваться как своеобразный перформативный парадокс[243], т.е. парадокс между тем, что говорит Витгенштейн, и тем, что он делает. Действительно, утверждая, что философские предложения лишены смысла, он всё-таки формулирует афоризмы, в которых говорится много такого, что, по его же мнению, превосходит изобразительные возможности языка[244]. Однако, будучи последовательным, Витгенштейн и свои собственные афоризмы объявляет псевдопредложениями: «Мои предложения поясняются тем, что тот, кто меня понял, в конце концов уясняет их бессмысленность, если он поднялся с их помощью – по ним – над ними. (Он должен, так сказать, отбросить лестницу, после того как он поднимется по ней)» [6.54]. Тому, кто уяснил инструкцию, надобность в ней отпадает, поскольку сама по себе она не представляет никакой ценности. Она ничего не говорит ни о содержании мира, ни о его смысле.
Но в этом утверждении есть и косвенный смысл, который придаёт тому, что написал Витгенштейн, дополнительную ценность, выходящую за рамки простой инструкции. В афоризме говорится не просто о том, что предложения ЛФТ должны быть отброшены. Речь идёт о том, чтобы ‘подняться с их помощью над ними’. Конечно, «философия ограничивает спорную область естествознания» [4.113], явно указывая пределы компетенции естественно-научной методологии. Но с точки зрения высшего смысла философской деятельности дело не в том, чтобы указать, что представляют собой действительные предложения. Решение этой прямой задачи есть лишь путь к достижению более высокой цели. О философии говорится, что «она должна ставить границу мыслимому и тем самым немыслимому. Она должна ограничивать немыслимое изнутри через мыслимое» [4.114]. Однако ограничение мыслимого – это способ подчеркнуть, эмфатически указать на то, что превосходит выразительные возможности языка. Философия «обозначает то, что не может быть сказано, ясно показывая то, что может быть сказано» [4.115]. ЛФТ – это способ перехода от того, что может быть сказано, к тому, что следует охранять молчанием.
Витгенштейн указывает критерий для читателя, надлежащим образом понявшего ЛФТ: «Он должен преодолеть эти предложения, лишь тогда он правильно увидит мир» [6.54]. ‘Правильно увидеть мир’ – значит перейти от познания его содержания к созерцанию мира как ‘ограниченного целого’[245]. ‘Правильно увидеть мир’ – значит перейти от дискурсивного мышления к мистическому созерцанию. ‘Правильно увидеть мир’ – значит перейти от удивления фактами мира к удивлению фактом его существования. В этом переходе реализовано единство логики и этики, единство рационального познания и мистического чувства. ЛФТ – это пролегомены, но не Пролегомены ко всякой будущей метафизике, это пролегомены к такому состоянию, когда философия больше не нужна.
Витгенштейн рационалист и мистик одновременно. Невозможно сказать, что в большей степени определяет его раннюю философию, первое или второе. Точно так же нельзя решить, чего в ЛФТ больше, рационализма или мистицизма. Можно только констатировать, что они органично дополняют друг друга до удивительно стройного целого. И это целое можно понять, только учитывая обе части работы, одна из которых, как указывается в письме к Фиккеру, содержится в ЛФТ, а другая, которую Витгенштейн не написал.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Дневниках есть одна фраза, которая придаёт дополнительный смысл содержанию ЛФТ. Витгенштейн говорит: «Молитва – это мысль о смысле мира» (Д, С.94(7)). Утверждать, что с точки зрения этой фразы ЛФТ представляет собой молитву, наверное, было бы слишком высокопарно. Скорее, Витгенштейн пытается ответить на вопрос, как возможна мысль о смысле мира? И здесь, вслед за И.Кантом, он вправе сказать: «Я ограничил знание, чтобы дать место вере». Основание этого результата вряд ли можно найти в попытке концепутализировать теоретическую сферу. Выяснение сущности языка – это скорее способ достижения результата. Устремления Витгенштейна имеют два источника. Во-первых, это этическое отношение к логике и, во-вторых, ощущение того, что не всё может быть сказано. В заключение хотелось бы в двух словах остановиться на этих источниках.
Восприятие логики через призму этики связано с тем, что можно назвать презумпцией доверия к логике языка. Требование ясно мыслить воспринято Витгенштейном как моральный императив. Именно здесь коренится представление об автономии логики, поскольку только логика обладает ‘принудительной силой абсолютного судии’ для познающего разума. Попытка оправдать логическую теорию какими-то предпосылками не только логический, но и моральный ‘грех’. О каком оправдании разума может идти речь, если разум, пренебрегая достоверностью, прибегает к сомнительным допущениям. Критика Фреге и Рассела основана на этом моральном чувстве. Прежде чем связывать язык ограничениями, нужно разобраться, как он работает. И при этом необходимо ориентироваться не на субъективное чувство уверенности, что нечто должно быть так. Представление о собственной правоте обладает лишь психологической достоверностью, которая должна быть подкреплена вердиктом объективного судьи. Но вне языка нет ничего, что могло бы вынести такой вердикт. Поэтому Витгенштейн ориентируется не на то, что нужно сказать, а на те возможности, которые предоставлены языком и которые при всём желании превзойти невозможно. Не предзаданная структура реальности должна быть представлена в языке, но правильное объяснение логики языка должно указать на то, какова структура реальности, претендующей на то, чтобы быть описанной. Главный вопрос о природе знаковых изображений не в том, что обозначает знак. Для того чтобы решить, может ли что-то соответствовать знаку в действительности, нужно прежде выяснить, как он обозначает. Язык сам должен установить, что превосходит его возможности. Таким образом, исследование границ языка мотивировано не только теоретическим, но и моральным интересом. И не случайно, что для Витгенштейна основной проблемой ЛФТ в конце концов оказывается то, что не может быть сказано, т.е. само моральное чувство, требующее до конца продумать основания познания.
Но логика не отвечает за ощущение, что высказать можно не всё. Невысказанное как результат логического исследования нельзя мотивировать интересом познания. Действительно, что это был бы за интерес, если он заранее предполагает границы. Это ощущение коренится в мистическом чувстве. В предпоследнем афоризме ЛФТ Витгенштейн использует метафору лестницы, по которой нужно подняться над тем, что говорится в ЛФТ. В этой метафоре нетрудно угадать источник – библейский сюжет лестницы Иакова (Бытие, Гл.25, ст.27-50), который изложен в духе немецких мистиков (Экхарт, Я.Бёме), толкующих лестницу Иакова как восхождение по ступеням познания в область мистически переживаемого и невыразимого, где для того, кто поднялся, необходимость в лестнице отпадает.
Эти источники отвечают духу австрийской культуры начала ХХ века. Их аналоги можно увидеть в языковом нигилизме Фрица Маутнера, заявившего о смерти языка как носителя этических ценностей, и в языковом оптимизме Карла Крауса, относящего язык к основам мироздания [246]. Главное в том, что, не учитывая этико-религиозный характер устремлений Витгенштейна, вряд ли можно до конца понять его раннюю философию. В противном случае понимание ЛФТ всегда будет односторонним, как это было у представителей Венского кружка, увидевших в этой книге не стремление мыслить смысл мира, но решение проблемы бессмысленности философских фраз, как это было у первых интерпретаторов, рассматривающих взгляды раннего Витгенштейна в основном как оригинальную философию логики, развивающую идеи Фреге и Рассела.
Витгенштейн пересмотрел свои ранние взгляды, и о мотивах такого пересмотра никто не скажет лучше него самого: «Чем более пристально мы приглядываемся к реальному языку, тем резче проявляется конфликт между ним и нашим требованием. (Ведь кристальная чистота логики оказывается для нас недостижимой, она остаётся всего лишь требованием.) Это противостояние делается невыносимым; требование чистоты грозит превращением в нечто пустое. – Оно заводит нас на гладкий лёд, где отсутствует трение, стало быть, условия в каком-то смысле становятся идеальными, но именно поэтому мы не в состоянии двигаться. Мы хотим идти: тогда нам нужно трение. Назад, на грубую почву!»[247] Практика обыденного словоупотребления заставила отказаться от логики как абсолютного судии. Но личностные источники его философии остались теми же самыми. Сменились лишь акценты и характер результатов. В теории языковых игр доверие к логике языка как такового заменилось доверием к логике его многообразного употребления. Мистическое укоренилось в невысказанности жизненного мира, лежащего в основании правилосообразного употребления языка. Тем же самым остался и смысл философствования, который поздний Витгенштейн формулирует совершенно в духе своих ранних взглядов: «Да поможет Бог философу проникнуть в то, что находится у всех перед глазами»[248].
ЛИТЕРАТУРА
1. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат.– М.: ИЛ, 1958.
2. Витгенштейн Л. Философские работы Ч.I, Ч.II(1).– М.: Гнозис, 1994.
3. Витгенштейн Л. Лекция об этике // Историко-философский ежегодник ’89.– М.: Наука, 1989.
4. Витгенштейн Л. Несколько заметок о логической форме // Логос: философско-литературный журнал, М.: Гнозис, 1994.
5. Витгенштейн Л. Дневники 1914-1916.– Томск: Водолей, 1998.
6. Wittgenstein L. Tractatus Logico-Philosophicus.– London, Routledge & Kegan Paul, 1966.
7. Wittgenstein L. Prototractatus. – Cornell University Press, Ithaca, New York, 1971.
8. Wittgenstein L. Notebooks 1914-1916. – The University of Chicago Press, 1979.
9. Wittgenstein L. Geheime Tagebücher 1914-1916. – Turia and Kant, Wien, 1991.
10. Wittgenstein L. Letters to C.K.Ogden with Comments on the English Translation of the Tractatus Logico-Philosophicus. – Basil Blakwell, Oxford, 1973.
11. Wittgenstein L. Letters to Russel, Keynes and Moore. – Ithaca, NY, Cornell Universitry Press, 1974.
12. Wittgenstein L. Briefe an Ludwig von Ficker. – Salzburg, Verlag Otto Müller, 1969.
13. Wittgenstein L. Philosophical Remarks. – The University of Chicago Press, 1975.
14. Wittgenstein L. Philosophische Grammatik. – Oxford, Basil Blackwell, 1969.
15. Wittgenstein’s Lectures on Foundations of Mathematics. – Cornell University Press, Ithaca, New York, 1976.
16. Wittgenstein L. Werkausgabe in 8 Bänden. – Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1984.
********
1. Аналитическая философия: Избранные тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1993.
2. Аналитическая философия: Становление и развитие. – М.: ДИК, 1998.
3. Баллаева Е.А. Философия как деятельность: мировоззренческий смысл «Логико-философского трактата» Л.Витгенштейна // Человек, сознание, мировоззрение (Из истории зарубежной философии). – М.: изд-во МГУ, 1979.
4. Баллаева Е.А. Витгенштейнова концепция мира как «микрокосма» (О мировоззренческих идеях «Логико-философского трактата») // Человек, общество, познание (Историко-философские очерки). – М.: изд-во МГУ, 1981.
5. Бартли У.У. Витгенштейн // Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. – Москва: Прогресс, Культура, 1993.
6. Бибихин В.В. «Логико-философский трактат» Витгенштейна // Философия на троих. – Рига: RaKa, 2000.
7. Вайсман Ф. Людвиг Витгенштейн и Венский кружок // Аналитическая философия: становление и развитие.– М.: ДИК, 1998
8. Вейнингер О. Пол и характер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
9. Вейнингер О. Последние слова. – Киев: Государственная библиотека Украины для юношества, 1995.
10. Вопросы философии, №5, 1998.
11. Вригт Г.Х. фон Логика и философия в ХХ веке // Вопросы философии, №8, 1992.
12. Вригт Г.Х. фон. Людвиг Витгенштейн (биографический очерк) // Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Культура», 1993.
13. Гарвер Н. Витгенштейн и критическая традиция // Логос: Философско-литературный журнал, №6. – М.: Гнозис, 1994.
14. Герц Г. Принципы механики, изложенные в новой связи. – М.: изд-во АН СССР, 1959.
15. Грязнов А.Ф. Эволюция философских взглядов Л.Витгенштейна. – М.: изд-во МГУ, 1985.
16. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. – М.: Наука, 1993.
17. Кампиц П. Австрийская философия // Вопросы философии, №12, 1990.
18. Кант И. Собрание сочинений в восьми томах. – М.: Чоро, 1994.
19. Козлова М.С. Логика и реальность (к критике концепции отображения реальности в «Логико-философском трактате» Л.Витгенштейна) // Вопросы философии, №9, 1965.
20. Козлова М.С. Философия и язык. – М.: Мысль, 1972.
21. Козлова М.С. Комментарии к русскому переводу Логико-философского трактата // Витгенштейн Л. Философские работы Ч.I.– М.: Гнозис, 1994.
22. Козлова М.С. Витгенштейн: особый подход к философии (к проблеме бессмысленности философских фраз) // Вопросы философии, №5, 1998.
23. Колесников А.С. Рассел и Витгенштейн: проблемы философского взаимовлияния // Философская и социологическая мысль, №8, 1989.
24. Краус В. Молчать о чём (изменение образа Людвига Витгенштейна от неопозитивизма к мистике) // Вопросы философии, №5, 1996.
25. Кузнецов В.Г. Проблема понимания языковых выражений в логико-семантической концепции Л.Витгенштейна // Вопросы философии, №9, 1985.
26. Кюнг Г. Онтология и логический анализ языка. – М.: Дом интеллектуальной книги,1999.
27. Кэрролл Л. История с узелками.– М.: Мир, 1973.
28. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Книга 2.– М.: Искусство, 1994.
29. Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Культура», 1993.
30. Малкольм Н. Людвиг Витгенштейн: Воспоминания // Людвиг Витгенштейн: Человек и мыслитель.– М.: Прогресс, 1993.
31. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1976.
32. Михайлов И.Ф. Витгенштейн и проблема мистического опыта // Философские идеи Людвига Витгенштейна. – М.: ИФ РАН, 1996.
33. Мур Дж. Э. Природа моральной философии. – М.: Республика, 1999.
34. Нири К. Философская мысль в Австро-Венгрии. – М.: Мысль, 1987.
35. Пассмор Дж. Сто лет философии. – М.: Прогресс-Традиция, 1998.
36. Проблема истины в современной западной философии науки.– М.: ИФАН, 1987.
37. Рассел Б. Проблемы философии. – СПб.: изд. П.П.Сойкина, 1914.
38. Рассел Б. Введение // Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: ИЛ, 1958.
39. Рассел Б. Почему я не христианин. – М.: Политиздат, 1987.
40. Рассел Б. Введение в математическую философию. – М.: Гнозис, 1996.
41. Рассел Б. Философия логического атомизма. – Томск: Водолей, 1999.
42. Смирнова Е.Д. Логика и философия. – М.: РОССПЭН, 1996.
43. Современная аналитическая философия (вып.3). – М.: ИНИОН, 1991.
44. Сокулер З.А. Людвиг Витгенштейн и его место в философии ХХ века. – Долгопрудный: Алегро-Пресс, 1994.
45. Сокулер З.А. “Жизнь и мир суть одно”: философия, логика и этика в “Логико-философском трактате” // Вопросы философии, №5, 1998.
46. Спиноза Б. Сочинения в двух томах. – СПб.: Наука, 1999.
47. Федяева Т.А. Людвиг Витгенштейн и Карл Краус // Вопросы философии, №5, 1998.
48. Философские идеи Людвига Витгенштейна. – М.: ИФ РАН, 1996.
49. Фреге Г. Шрифт понятий: Скопированный с арифметического формульный язык чистого мышления // Методы логических исследований. – Тбилиси: Мецниереба, 1987.
50. Фреге Г. Избранные работы. – М.: Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1997.
51. Фреге Г. Логические исследования. – Томск: Водолей, 1997.
52. Фреге Г. Основоположения арифметики: Логико-математическое исследование о понятии числа. – Томск: Водолей, 2000.
53. Хилл Т. Современные теории познания. – М.: ИЛ, 1966.
54. Чёрч А. Введение в математическую логику. – М.: ИЛ, 1969.
55. Шопенгауэр А. Сочинения Т.1, Т.2. – М.: Наука, 1995.
56. Юм Д. Сочинения в двух томах. – М.: Мысль, 1996.
57. Яковлев А.А. Кембриджский философ (история жизни Бертрана Рассела в годы 1872-1914) // Проблема истины в современной западной философии науки.– М.: ИФАН, 1987.
58. Analytic Philosophy and Phenomenology. – The Hague, Martinus Nijhoff, 1976.
59. Anscombe G.E.M. An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus. – Hatchinson University Library, London, 1959.
60. Ayer A. Russell and Moore: The Analitical Heritage. – Cambridge, 1971.
61. Baker G. Wittgenstein, Frege and the Vienna Circle. – Basil Blackwell, Oxford, 1988.
62. Bergman G. The Revolt against Logical Atomism (I, II) // The Philosophical Quarterly, 1957,№29; The Philosophical Quarterly, 1958, №30.
63. Black M. A Companion to Wittgenstein’s Tractatus. – Cambridge University Press, 1964.
64. Black M. “Notebooks 1914-1916” by Ludwig Wittgenstein: Critical Notice // Mind, vol.LXXIII, N.289, 1964.
65. Bogen J. Professor Black’s Companion to the Tractatus // Philosophical Review, vol.78, N.3, 1969.
66. Carruters P. Tractarian Semantics: Finding Sense in Wittgenstein’s Tractatus. – Oxford, Basil Blackwell, 1989.
67. Cavalier R. J. Ludwig Wittgenstein’s “Tractatus Logico-Philosophicus” – A Transcedental Critique of Ethics. – University of Washington Press, 1980.
68. Cohen M. Tractatus 5.542. – Mind, vol.LXXXIII, №331, 1974.
69. Copi J.M. Objects, Propreties and Relations in the ‘Tractatus’ // Mind, Vol.LXVII, №266, 1958.
70. Copi J.M. ‘Tractatus’ 5.542 // Essays on Wittgenstein’s Tractatus.– The Macmillan Company, New York, 1966.
71. Сostello H.T. Introduction to “Notes on Logic” by L.Wittgenstein // The Journal of Philosophy, vol.LIV, No.9, 1957.
72. Engelman P. Letters from Ludwig Wittgenstein. With a Memoir. – Oxford, Basil Blackwell, 1967.
73. Essays on Wittgenstein’s Tractatus.– The Macmillan Company, New York, 1966.
74. Essays on Bertrand Russell. – University of Illinois Press, Urbana, Chicago and London, 1971.
75. Evans E. About “aRb” // Essays on Wittgenstein’s Tractatus.– The Macmillan Company, New York, 1966.
76. Favrholdt D. An Interpretation and Critique of Wittgenstein’s Tractatus.– Copengagen: Munksgaard, 1964.
77. Favrholdt D. Tractatus 5.542.– Mind, vol.LXXIII, №292, 1964.
78. Ferrante F. Expression and Symbol in Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus // Metalogicon, vol.III, N.2, 1990.
79. Finch H.L. Wittgenstein – the Early Philosophy: an Exposition of the Tractatus.– New York: Humanities Press, 1971.
80. Fogelin R.J. Wittgenstein.– Routledge & Kegan Paul, London, 1976.
81. Frege G. Grundgesetze der Arithmetik, begriffsschriftlich abgeleitet, Bd.1.– Jena, 1893.
82. Frege G. On the Scientific Justification of a Concept-script // Mind, №290, 1964.
83. Frege G. Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf logische Studien.– Göttingen,1962.
84. Frege G. Philosophical and Mathematical Correspondence.– Oxford: Basil Blackwell, 1980.
85. Glouberman M. Tractatus: Pluralism or Monism? // Mind, vol.LXXXIX, N.353, 1980.
86. Griffin J. Wittgenstein’s Logical Atomism. – University of Washington Press, Seattle and London, 1969.
87. Hacker P.M.S. Frege and Wittgenstein on Elucidations // Mind, vol.LXXXIV, N.336, 1975.
88. Hacker P.M.S. Semantic Holism: Frege and Wittgenstein // Wittgenstein: sources and perspectives.– New York, 1979.
89. Hacker P. Laying the Ghost of the Tractatus // Ludwig Wittgenstein: Critical Assesments, vol.1. – London: Croom Helm, 1986.
90. Hacking I. What is Logic? // The journal of Philosophy, vol.LXXVI, N.6, 1979.
91. Hackstaff L.H. A Note on Wittgenstein’s Truth-Function-Generating Operation in Tractatus 6. – Mind, vol.lxxv, No.298, 1966.
92. Haller R. Questions on Wittgenstein. – Routledge, London, 1988.
93. Hart W.D. The Whole Sense of the Tractatus // The Journal of Philosophy, vol.LXVIII, N.9, 1971.
94. Hawkins B. Note on a Doctrine of Frege and Wittgenstein // Mind, vol.LXXV, N.300, 1966.
95. D’Hert I. Wittgenstein’s Relevance for Theology. – Bern, 1975.
96. Hintikka J. On Wittgenstein’s ‘Solipsism’ // Essays on Wittgenstein’s Tractatus.– The Macmillan Company, New York, 1966.
97. Hochberg H. Logic, Ontology, and Language: Essays on Truth and Reality.– Philosophia Verlag, München, Wien, 1984.
98. Hope V. Picture Theory of Meaning in the Tractatus as a Development of Moore’s and Russell’s Theories of Judgment // Philosophy, vol.XLIV, N.168, 1969.
99. Hunnings G. The World and Language in Wittgenstein’s Philosophy. – Macmillan Press, 1992.
100. Janik A. Toulmin S. Wittgenstein’s Vienna.– N.Y., 1973.
101. Janik A. Essays on Wittgenstein and Weininger. – Rodopi, Amsterdam, 1985.
102. Kannisto H. Thoughts and their Subject: a Study of Wittgenstein’s Tractatus. – Helsinki, 1986.
103. Kenny A. Wittgenstein. – Penguin Books, 1976.
104. Keyt D. A New Interpretation of the Tractatus Examined // Philosophical Review, vol.74, N.2, 1965.
105. Language, Logic and Philosophy: 4-th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg/Wechsel, Austria, 1979.
106. Lewy C. A Note on the Text of the Tractatus // Mind, 1961, vol.61
107. Ludwig Wittgenstein: Critical Assesments (vol.I: From the Notebooks to Philosophical Gramar: The Construction and Dismanthing of the Tractatus).– London, Croom Helm, 1986.
108. Ludwig Wittgenstein: Critical Assesments (vol.III: From Tractatus to Remarks on Philosophy of Mathematics: Wittgenstein on Philosophy of Mathematics).– London, Croom Helm, 1986.
109. Marion M. Wittgenstein and Finitism // Synthese, vol.105, 1995.
110. Maslow A. A Study in Wittgenstein’s Tractatus.– University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1961.
111. Maury A. The Concept of Sinn and Gegenstand in Wittgenstein’s Tractatus. – North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1977.
112. McGuinness B.F. The Misticism of the Tractatus // Philosophical Review, vol.75, N.3, 1966.
113. McGuinness B. B.Russell and L.Wittgenstein’s “Notes on Logic” // Revue Internationale de Philosophie, 1972, No.102.
114. McGuinness B.F. Wittgenstein: A Life. Young Ludwig: 1889–1921, vol.1.– Duckworth, London, 1988.
115. Morrison J.C. Meaning and Truth in Wittgenstein’s Tractatus.– Mouton, The Hague–Paris, 1968.
116. Mounce H.O. Wittgenstein’s Tractatus: an Introduction. – The University of Chicago Press, 1981.
117. Munitz M. K. Contemporary Analytic Philosophy. – Macmillan Publishing Co. Inc., New York; Collier Macmillan Publishers, London, 1981.
118. Nesher D. Remarks on Language and Science in Wittgenstein’s Tractatus // Wittgenstein, the Viena Circle and Critical Rationalism.– Vien: Hölder, 1979.
119. Palmer H. The Other Logical Constant // Mind, vol.LXVII, N.265, 1958.
120. Pears D. Bertrand Russell and the British Tradition in Philosophy. – Random Haus, New York, 1967.
121. Pears D. Wittgenstein.– Fontana/Collins, 1971.
122. Ramsey F.P. Philosophical Papers. – Cambridge University Press, 1990.
123. Rhees R. Miss Anscombe on the Tractatus // The Philosophical Quarterly, vol.10, N.38, 1960.
124. Rhees R. The Tractatus: Seeds of Some Misunderstandings // Philosophical Review, vol.72, N.2, 1963.
125. Ricœur P. Husserl and Wittgenstein on Language // Analytic Philosophy and Phenomenology. – The Hague, Martinus Nijhoff, 1976.
126. Ruffino M.A. The Context Principle and Wittgenstein’s Criticism of Russell’s Theory of Types // Synthese, vol.98, 1994.
127. Russell B. Our Knowledge of the External World.– London: George Allen & Unwin, LTD, 1926.
128. Russel B. The Principles of Mathematics.– NY, 1938.
129. Russell B. Mysticism and logic and other essays.— London: Allen & Unwin LTD, 1954.
130. Russell B. Theory of Knowledge: The 1913 Manuscript // The Collected Papers of Bertrand Russell.– London: Allen & Unwin, 1984.
131. Ryle G. Ludwig Wittgenstein // Essays on Wittgenstein’s Tractatus. – New York: The Macmillan Company, 1966.
132. Sahlin N.E. The Philosophy of F.P.Ramsey. – Cambridge University Press, 1990.
133. Savit S. Wittgenstein’s Early Philosophy of Mathematics // Ludwig Wittgenstein: Critical Assesments, vol.III.– London, Croom Helm, 1986.
134. Schwyzer H.R.G. Wittgenstein’s Picture Theory of Language // Essays on Wittgenstein’s Tractctus. – The Macmillan Company, New York, 1966.
135. Sellars W. Truth and ‘Correspondence’ // The Journal of Philosophy, Vol.LIX, №2, 1962.
136. Sellars W. Naming and Sayng // Essays on Wittgenstein’s Tractatus.– The Macmillan Company, New York, 1966.
137. Sheffer H.M. A set of five indepenpendent logical postulates for Boolean algebras with application to logical constants // Transaction of the American Mathematical Society, vol.14, 1913.
138. Shwayder D.S. Wittgenstein on Mathematics // Studies in the Philosophy of Wittgenstein. – London: Routledge, 1969.
139. Silva C.H.C. The Problem of Time in Wittgenstein // Language, Logic and Philosophy (4-th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg/Wechsel, Austria, 1979).
140. Stenius E. Wittgenstein’s Tractatus: A Critical Exposition of its Main Lines of Thoughts.– Oxford: Basil Blackwell, 1960.
141. Studies in the Philosophy of Wittgenstein. – London, Routledge, 1969.
142. Shwayder D.S. Wittgenstein’s “Tractatus”: A Critical Exposition of its Main Lines of Thought by Erik Stenius: Critical Notices // Mind, vol.LXXII, N.286, 1963.
143. The Philosophy of Bertrand Russell. – Harper Torchbooks, 1963.
144. Urmson J.O. Philosophical Analysis: Its Development between the Two World Wars. – Oxford, The Clarendon Press, 1956.
145. Watling J. Bertrand Russell. – Oliver and Boyd, Edinburgh, 1970.
146. Weiler G. On Fritz Mauthner’s Critique of Language // Mind, vol.LXVII, N.265, 1958.
147. Wittgenstein: Sources and Perspectives.– New York, 1979.
148. Wittgenstein, the Viena Circle and Critical Rationalism.– Vien: Hölder, 1979.
149. Wolniewicz B. A Parallelism between Wittgensteinian and Aristotelian Ontologies \\ Boston Studies in the Philosophy of Science IV.– Dordrecht,1969.
150. Wright G.H.von The Origin of Wittgenstein’s Tractctus // Wittgenstein L. Prototractatus. – Cornell University Press, Ithaca, New York, 1971.
151. Zemach E. Wittgenstein’s Philosophy of the Mystical // Essays on Wittgenstein’s Tractatus. – The Macmillan Company, New York, 1966.